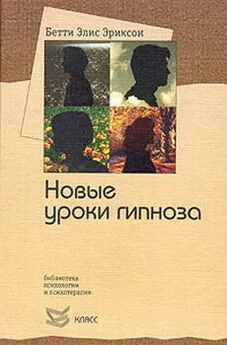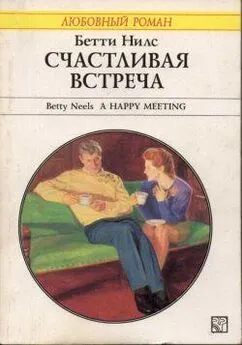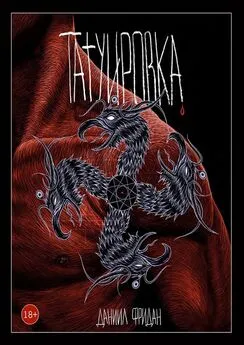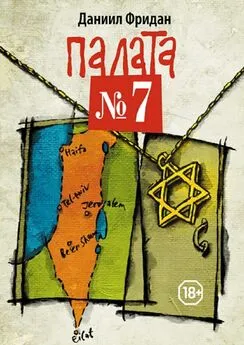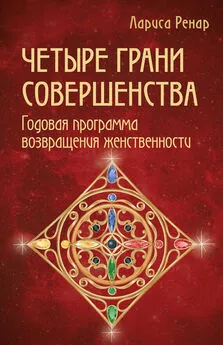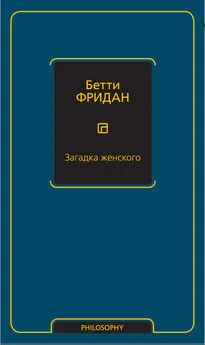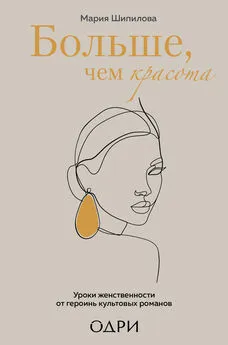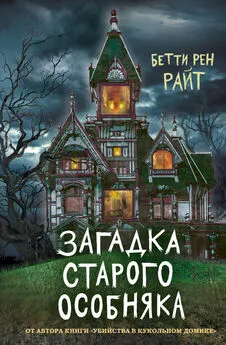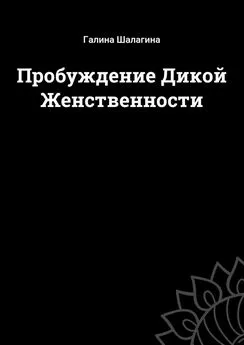Бетти Фридан - Загадка женственности[«The Feminine Mystique»]
- Название:Загадка женственности[«The Feminine Mystique»]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:группа Прогресс Литера
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-01-003656-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бетти Фридан - Загадка женственности[«The Feminine Mystique»] краткое содержание
"Загадка женственности" — это классика, знакомая каждой читающей женщине, это неотъемлемая часть истории женского освободительного движения, это часть мировой культуры. Книга стала первым в стране серьезным социологическим исследованием того социального явления, которое превалировало в послевоенной Америке и шло под лозунгами "обратно к дому" или "назад к семье". В ней был дан точный и скрупулезный анализ причин этого. Со свойственной ей страстностью Бетти обвиняла всех: социологов и психологов, профессоров и политических деятелей, которые не переставали утверждать, что роль женщины — только семья и дети. Она же утверждала, что это архаично, реакционно и полностью лишает вторую половину рода человеческого проявить свои таланты и реализовать скрытые возможности, которые полностью вытесняются домом и семьей. Книга была полемична и в некотором смысле противоречива, но сразу стала бестселлером.
Как сказано в некрологе Фридан, опубликованном в журнале «The New York Times» в 2006 году, «Загадка женственности» «дала начальный импульс современному женскому движению в 1963 году и в результате навсегда изменила структуру общества в Соединенных Штатах и других странах мира» и «многими рассматривается как одна из наиболее влиятельных публицистических книг XX века».
Загадка женственности[«The Feminine Mystique»] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поначалу педагоги видели корень зла в консерватизме и осторожности как наследии эпохи маккартизма, в ощущении беспомощности, рожденной атомной угрозой; позднее перед лицом успехов русских в космосе политики и общества в целом принялись обвинять в этом грехе излишнюю мягкость системы образования. Но лучшие из педагогов отымали себе отчет в том, что дело не в мягкотелости, а в пассивности, которую учащиеся сами привносят в школу, в этой пугающей «базовой пассивности, которая… требует героических усилий от тех, кто должен ежедневно преодолевать ее в школе и за пределами школьных стен». Физическая пассивность подрастающего поколения привела к физическому ослаблению, встревожившему наконец и Белый дом. Эмоциональная пассивность материализовалась в фигурах бородатых неряшливых битников, воплотивших в себе бесстрастный и бесцельный юношеский протест. Подростковая преступность в респектабельных районах начала уравниваться в масштабах с преступностью в районах трущоб, причем замешанным в ней оказывались дети из преуспевающих, благополучных, образованных семей, имеющих все «возможности» и «привилегии». Фильм под названием «Я был подростком Франкенштейном» не казался невинной забавой родителям из Уэст-Честера и Коннектикута, которых в шестидесятые годы терроризировали банды малолетних преступников и дети которых баловались на своих вечеринках в роскошных интерьерах наркотиками. Не забавлял этот фильм и старшее поколение округа Берген, дети которых были арестованы за вандализм на кладбище, и родителей дочек, которые в свои тринадцать лет организовали свою службу «девушек по вызову». Кроме бессмысленного вандализма можно вспомнить массовые хулиганства во Флориде, беспорядочные половые связи, распространение среди несовершеннолетних венерических заболеваний и рост случаев внебрачной беременности, массовый уход из школ и высших учебных заведений. Такова была изнанка этой пассивности. Для скучающих, ленивых, попрошайничающих детей единственным способом прервать монотонность ничем не занятого времени был «кикс». («Кикс» — термин из обихода джазовых музыкантов, приобретший к концу сороковых годов устойчивое обозначение удовольствия, получаемого от безнравственного поступка. — Прим. Перев).
Эта пассивность была уже не проблемой скуки — она сигнализировала о разрушении личности. Грозящая опасность была понята теми, кто изучал поведение американских солдат, попавших в плен в Корее в пятидесятые годы. Армейский врач, майор Кларенс Андерсон, которому разрешалось свободно передвигаться по лагерям военнопленных, обслуживая содержащийся там контингент, сделал такое наблюдение: «Во всех лагерях, временных и постоянных, сильные всегда отнимали пищу у слабых. Пресечь это зло было невозможно, поскольку никакой дисциплины не соблюдалось вообще. Многие были ослаблены, и здоровые, вместо чтобы помочь им, напротив, всячески их притесняли. Повсеместно свирепствовала дизентерия, и из-за нее больные не могли передвигаться. Зимними ночами беспомощные больные дизентерией, изгонялись товарищами из казарм, их оставляли умирать на морозе».
Почти 38 процентов военнопленных умерли — такого уровня смертности не знала еще ни одна война, в которой принимали участие американцы, со времен Великой американской революции. Многие военнопленные, инертные, бездеятельные, пытались спастись, прячась от реальности. Они ничего не предпринимали, чтобы раздобыть еду, дрова, держать себя в чистоте, чтобы общаться с другими. Майора поразил тот факт, что эти американские солдаты были совсем лишены «присущей янки приспособляемости», умения справляться с новой ситуацией, хотя бы и простейшей. Он сделал следующее заключение: «Частично — но только частично — это было следствием психического шока, в которым их поверг плен. Но кроме того, это был результат просчетов в воспитании в детстве и юности, результат изнеживающих условий роста». Делая поправку на военную пропаганду психолог, занимающийся проблемами воспитания, прокомментировал эти слова: «Безусловно, в развитии этих молодых ребят произошел чудовищный сдвиг: их жестокость, непорядочность, уязвимость ужасны. Я не нахожу иного слова, как разрушение личности. Правильное развитие может и обязательно должно готовить зрелость, суть которой в стабильном чувстве самости…»
В свете сказанного военнопленные в корейских лагерях представляют собой новый тип американца, воспитанного вопреки педагогической логике людьми, не обладающими характером и уровнем сознания, которые помешали бы культивировать тип личности с низким самосознанием». Ошеломляющее признание того, что пассивное разрушенные личности является «небывалым историческим событием», пришло только тогда, когда оно уже заметно проявило себя в молодом поколении. Между тем апатичное, инфантильное, бездумное существо, какой-то недочеловек, в которого превращается новый американец, разительно напоминает «женственную» личность в том виде, в каком ее описывают сторонники загадочной женственности. Ну разве же основные черты женственности, которую Фрейд неразрывно связывал с биологией пола, — пассивность, низкий уровень самосознания, неразвитое суперэго, отказ от постановки труднодоступных целей, от амбициозных замыслов, готовность пренебречь собственными интересами, неспособность к абстрактному мышлению, отказ от деятельности во внешнем мире и замыкание в узком личном мирке, часто просто в каком-то воздушном замке, — разве это не те же самые свойства, которые характеризуют нынешнюю повальную пассивность?
Как скажется появление в Америке юношей и девушек, чье развитие затормаживается на уровне инфантильной фантазии и бездействия? Юношество, в котором я заметила эти качества, — дети матерей, которые жили в пределах, очерченных для них загадочной женственностью. Они исполняли свою материнскую роль так, как предписывалось обществом. Некоторые из них имели способности выше средних, иногда высшее образование, но все они вели себя одинаково по отношению к детям, в которых видели единственный смысл жизни.
Одна мать, ужасно расстроенная тем, что ее сын с трудом учится читать, сказала мне, что, ожидая его возвращения домой с первыми отметками, «волновалась, как девчонка перед первым свиданием». Эта женщина была твердо убеждена, что учителя занижают способности ее ребенка. Другая мать жаловалась на то, как тяжело она переносила любое чувство дискомфорта, которое приходилось испытывать ее детям. Вот ее слова: «Я всегда позволяла им переворачивать в доме все вверх дном, строить домики в гостиной, не разбирая их целыми днями, так что мне самой негде было присесть и почитать. Я терпеть не могла заставлять их заниматься тем, что им было не по душе, даже принимать лекарства во время болезни. Мне было невыносимо видеть их страдающими, я не могла смотреть, когда они дрались или сердились на меня. Я всегда все понимала и проявляла терпение. Покидая их всего на несколько часов, я чувствовала себя виноватой. Меня волновала каждая страница в их тетрадках. Я всегда старалась быть хорошей матерью. Гордилась тем, что Стив не вступал в драки с соседскими ребятишками. И не подозревала неладного вплоть до той поры, пока у него не возникли проблемы в школе, когда он не хотел появляться в классе, боясь других ребят, а по ночам его мучили кошмары».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Бетти Фридан - Загадка женственности[«The Feminine Mystique»]](/books/432753/betti-fridan-zagadka-zhenstvennosti-the-feminine.webp)