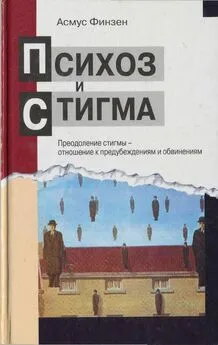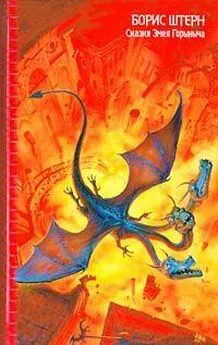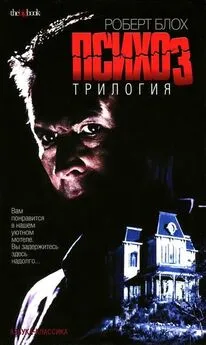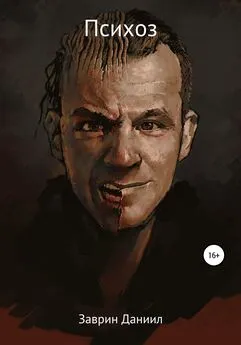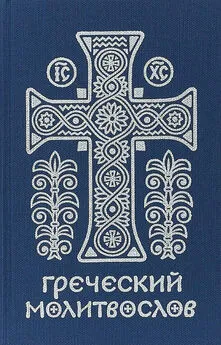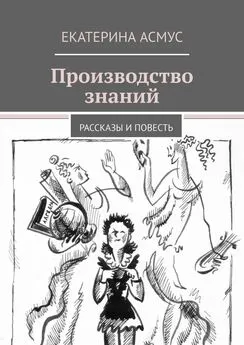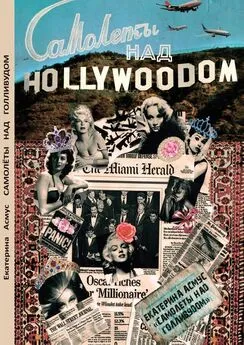Асмус Финзен - Психоз и стигма. Преодоление стигмы — отношение к предубеждениям и обвинениям
- Название:Психоз и стигма. Преодоление стигмы — отношение к предубеждениям и обвинениям
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейа
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-89321-066-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Асмус Финзен - Психоз и стигма. Преодоление стигмы — отношение к предубеждениям и обвинениям краткое содержание
Книга известного швейцарского психиатра Асмуса Финзена посвящена шизофрении — психическому расстройству, до сих пор остающемуся загадкой и внушающему страх.
«Шизофрения — отнюдь не редкость. Ее частота близка частоте диабета. Каждый сотый из нас страдает ею. В окружении каждого есть кто-то страдающий шизофренией.
Это книга о деликатном подходе — общественном, индивидуальном, профессиональном — к болезни, носители которой вынуждены считаться не только с ее медицинскими проявлениями, но и с социальной дискриминацией и ее губительными влияниями на их личность» (А. Финзен).
Психоз и стигма. Преодоление стигмы — отношение к предубеждениям и обвинениям - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рональд Рейган разрешил сообщить, что страдает болезнью Альцгеймера. История болезни страдающего депрессиями Клауса фон Амсберга в течение ряда лет не сходила со страниц газет. Гаральд Юнке время от времени превращает в газетную сенсацию сведения о своих повторяющихся алкогольных запоях. Артисты и спортсмены сообщают о том, что страдают СПИДом и вызывают сочувствие. Не происходит только одного! Никто не сообщает: «Я — Фридрих Гёльдерлин. Я страдаю шизофренией».
А между тем, много известных людей страдает шизофренией. Невозможно обойти молчанием одно исключение последнего времени. Нобелевская премия в области экономических наук за 1994 год была присвоена математику Джону Форбсу Нэшу. В молодости Нэш защитил новаторскую докторскую диссертацию по теории игры, которая в дальнейшем приобрела большое значение для теории экономических наук. Нэш — нобелевский лауреат. Он страдает шизофренией. Его психоз обусловил длительную неработоспособность и инвалидность, пока, наконец, не наступило улучшение. Одно газетное сообщение гласило:
«Быть может, сыграла свою роль благоприятная социальная среда, отвергшая пренебрежительное отношение к больным, бытовавшее в начале 80-х. Но так или иначе, Нэш начал медленно возвращаться к работе. Даже в том случае, если его лучшие творческие годы позади, многие коллеги считают его еще способным поразить их своими трудами. Нобелевский комитет своим выбором подтвердил: „К психическому заболеванию следует относится не иначе, чем, например, к раку“» (газета «Контакт», 1995).
История жизни и заболевания Нэша может оказать помощь и другим больным, страдающим психозами (Nasar 1998, 1999).
Даже в течение последнего десятилетия, когда открытость стала нормой, почти невозможно представить себе сообщения в прессе о шизофренном психозе, постигшем какого-нибудь известного современника. Скорее наоборот. Когда становится известно о выздоровевшем от шизофрении известном современнике, то это кончается отнюдь не рассказом о подробностях истории болезни, какие очень любят средства массовой информации, а «разносом» врачей, поставивших этот диагноз: «По-видимому, речь идет об ошибочном диагнозе. В противном случае, как бы ни называлась болезнь, NN не мог бы быть таким трудоспособным и так успешно работать». Примерно таким было содержание статьи, опубликованной недавно во Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой подробно сообщалось о работе австралийской писательницы Дженет Фрейм (Janet Frame), которая провела восемь лет в психиатрической больнице. Ей якобы был ошибочно поставлен диагноз шизофрении, так как шизофрения неизлечима (Lueken 1994).
Миф о неизлечимости неистребим. Кажется, что даже в отдельном, конкретном случае его невозможно преодолеть. Впечатляющий пример приводит американка Лори Шиллер (Lori Schiller 1995) в своей автобиографической книге «Безумие в голове»:
«Когда мы случайно … заговариваем о моем прошлом, то мне приходится совсем не просто. Многие мужчины вообще не в состоянии это осмыслить. Порой их реакции кажутся мне даже остроумными. Некоторое время я встречалась с человеком, с которым познакомилась, когда отдавала в ремонт свою автомашину. Мы хорошо понимали друг друга и прекрасно проводили время вместе. В конце концов я решилась рассказать ему о моем прошлом. Я пригласила его к себе домой и показала ему одну статью, в которой описывала мою болезнь. Он прочитал статью и с недоверием уставился на меня. „Ты не больна шизофренией“, — сказал он. „Боюсь, что это все-таки так“, — возразила я. „Нет. Это не так. Ты просто все это выдумала“».
Тот, кто производит впечатление здорового, не может страдать шизофренией. Тот, кто самостоятельно руководит своей жизнью, никогда не мог быть больным. Но такая логика ошибочна. Она искажает действительность. Для больных шизофренией она становится двойной ловушкой. Она возвращает их к исходной точке в то время, когда они уже справились с болезнью. Она заставляет их казаться неискренними, когда они, находясь в хорошем состоянии, пожелают рассказать о себе. Она мешает им совершенствовать собственную личность, которая позволила бы им использовать опыт своей болезни.
В связи с тем, что шизофренные заболевания наших современников являются для нас запретной темой, обратимся к свидетельствам, касающимся исторических личностей, в частности в области литературы. Христиан Мюллер (Christian Müller) собрал такие свидетельства и опубликовал их в книге, озаглавленной им «Мысли становятся осязаемыми» (1992). На страницах этой книги мы встречаем Готтхольда Эфраима Ленца — друга Гёте, приступы шизофрении которого описал Бюхнер. Здесь и французский поэт Жерар де Нерваль, который перенес несколько приступов шизофрении и неоднократно находился на лечении в психиатрических больницах. Об этом писал также Бенедетти (Benedetti) в книге «Психиатрические аспекты творчества» (1975). У Нерваля произошло сращивание его творчества с психозом, что бывает, к сожалению, довольно редко. У Фридриха Гёльдерлина и Роберта Вальсера психоз привел к упадку творческой энергии и обеднению поэтического дарования, если верить высказываниям их современников. Однако в недавнем прошлом появились указания, в частности касающиеся Вальсера, которые ставят под сомнение былые оценки. Август Стриндберг страдал тяжелой параноидной шизофренией. Вопрос о заболевании Вирджинии Вульф остается открытым.
Чаще всего мы узнаем об этом тогда, когда психоз принимает тяжелое течение, когда болезнь выбивает больного из привычной колеи его общественной жизни. Сколько их, тех, кто, подобно Дженет Фрейм, преодолел болезнь, нам не известно. Как правило, мы так же мало знаем о тех, кто живет и страдает от своей болезни, оставаясь при этом творчески активным и трудоспособным. Так, например, вряд ли известно, что к этим личностям принадлежал и Рильке — по крайней мере, по заключению Эрнста Кречмера (Kretschmer 1966).
«Райнер Мария Рильке в течение многих лет шел, как лунатик, по самому краю шизофренной катастрофы, но не погружался в нее, подобно Гёльдерлину. Речь идет только о приступообразных расстройствах настроения с многолетним мучительным застоем в творчестве, который усиливался чувством вины и отчуждением, а иногда сопровождался галлюцинаторными переживаниями и переживаниями воздействия извне. Молчание его длилось почти десять лет, до 1922 года. До наступления этих периодов болезненной апатии и после их окончания у него отмечались фазы бурного творческого подъема с непосредственным переживанием мистической связи с божественным… Эти основные черты личности сформировались у Рильке еще в раннем возрасте… Однако после тяжелого приступа подавленности, во время высоко продуктивного периода, в последние годы жизни, в его творчестве отчетливо выступали перемены стиля… Далее дело доходит до прогрессирующего распада речевых и логических связей и до замены их многозначительными символами… Эти сбивчивые, обгоняющие друг друга красочные символы приобретают для впечатлительного читателя таинственную, магическую прелесть и заставляют только догадываться об их скрытом смысле. В этом их поэтическая ценность. Но для врача они, как и поздние гимны Гёльдерлина, являются сигналами наступающей угрозы для состояния психики. Чувствуется, что структуре личности угрожает распад» (Kretschmer 1966).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: