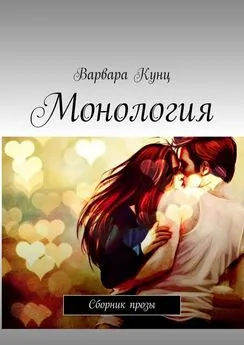Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Название:Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906462-8-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] краткое содержание
Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это приводит меня ко второму, именно к вопросу о бессмертии, и я не могу скрыть, что в обычной форме отношения к нему я вижу еще более элементов, не связанных с сущностью благочестия или не вытекающих из нее. Я надеюсь, что я уже изложил вам ту форму, в которой каждый религиозный человек носит в себе неизменное и вечное бытие. Ведь если наше чувство нигде не прикрепляется к единичному, а его содержанием является, наоборот, наше отношение к Богу, в котором исчезает все отдельное и преходящее, – то в нем и нет ничего преходящего, а есть одно лишь вечное; и можно по праву сказать: религиозная жизнь – это есть жизнь, в которой мы уже принесли в жертву и отчуждили все смертное и подлинно наслаждаемся бессмертием. Но представление большинства людей о бессмертии и их влечение к нему кажутся мне не религиозными; более того, их желание быть бессмертными не имеет иного основания, кроме отвращения к тому, что есть цель религии. Вспомните, что религия всецело стремится к тому, чтобы резко отграниченные очертания нашей личности расширились и постепенно слились с бесконечным, – чтобы мы, сознавая вселенную, как можно теснее объединялись с ней; они же противятся этому; они не хотят выйти из своей обычной ограниченности, они хотят быть только проявлением этой ограниченности и боязливо озабочены своей личностью; далекие от желания воспользоваться единственным случаем, который им предоставляет смерть, чтобы выйти за пределы своей личности, они, напротив, обеспокоены, удастся ли им взять ее с собой в иную жизнь, и стремятся разве только к более зорким глазам и лучшему сложению в том мире. Но Господь говорит им, как написано: кто теряет свою жизнь во имя Мое, тот сохранит ее, а кто хочет сохранить ее – потеряет. Жизнь, которую они хотят сохранить, не есть жизнь сохраняющая; ведь если им нужна вечность их единичной личности, почему они не заботятся столь же боязливо о том, что они были, как о том, что они будут? И что помогает им стремление вперед, если они все же не могут обратиться назад? Чем более они жаждут бессмертия, которое не есть бессмертие и которое они даже не властны помыслить – ибо кто может одолеть задачу представить себе бесконечным бытие, пребывающее во времени? – тем более они теряют то бессмертие, которое они всегда могут иметь, и к тому же теряют и смертную жизнь, растрачивая ее на мысли, которые тщетно тревожат и мучат их. Пусть они попытаются из любви к Богу отдать свою жизнь! Пусть они стремятся уже здесь уничтожить свою личность и жить во всеедином! Кто научился быть более, чем самим собой, тот знает, что он мало теряет, теряя самого себя; кто, отрекшись от самого себя, слился, насколько это для него доступно, со всей вселенной, и в чьей душе возникло более могущественное и святое влечение, – лишь тот имеет право на бессмертие, и лишь с тем можно далее говорить о надеждах, подаваемых смертью, и о бесконечности, к которой мы через нее возносимся.
Таков мой образ мыслей в этих вопросах. Обычное представление о Боге, как об отдельном существе вне мира и позади мира, не исчерпывает всеобщего предмета религии и есть редко чистая и всегда недостаточная форма выражения религиозного сознания. Кто образует такое понятие по нечистым мотивам, именно полагая, что должно иметься непременно такое существо, которым можно воспользоваться для утешения и помощи, тот может верить в такого Бога, не будучи благочестивым, по крайней мере в моем смысле, и я полагаю, что и в подлинном и истинном смысле он не будет признан благочестивым. Кто, напротив, образует такое понятие не произвольно, а как-либо вынуждаемый к тому своим образом мышления и способный лишь в связи с ним укреплять свое благочестие, тому не нанесут вреда и не загрязнят религиозного чувства несовершенства, всегда присущие его понятию. Истинную же сущность религии образует не это, и не какое-либо иное понятие, а лишь непосредственное сознание Божества, как мы находим Божество одинаково и в нас самих, и в мире. И точно так же цель и характер религиозной жизни есть не бессмертие в той форме, в какой многие хотят его и верят в него, или, по крайней мере, говорят о своей вере в него, – ибо их желание побольше узнать о нем дает основание усомниться в их вере; это есть не то бессмертие вне времени и позади времени, или, вернее, лишь после этого времени, но все же во времени, – а бессмертие, которое мы можем непосредственно иметь уже в этой временной жизни и которое есть задача, постоянно требующая нашего разрешения. Среди конечного сливаться с бесконечным и быть вечным в каждое мгновение – в этом бессмертие религии.
Третья речь. О религиозном воспитании
Если я сам признал, что в характере религии глубоко заложено стремление делать прозелитов из неверующих, то все же не это стремление влечет меня теперь говорить вам также о развитии в человеке этой возвышенной способности и об условиях такого развития.
Мы, верующие, не знаем иного средства к этой конечной цели, кроме того, чтобы религия свободно проявлялась и сообщалась. Когда она живет в человеке со всей присущей ей силой, когда она властно увлекает за собой в поток своей жизни все способности его духа, то мы ожидаем, что она проникнет до последних глубин каждого отдельного человека, который живет и дышит в таком кругу, что все однородное ей будет в каждом затронуто и, охваченное сочувственным трепетом, достигая сознания своего бытия, порадует ответным родственным звуком слух призывающего. Лишь так, через естественные проявления собственной жизни, благочестивый человек хочет пробуждать близкие ему чувства, и где это ему не удается, там он гордо пренебрегает всякой чуждой приманкой, всяким насильственным приемом, успокаиваясь на мысли, что еще не настал час, когда здесь может пробудиться что-либо родственное ему. Нам всем не нов этот неудачный исход. Как часто и я налаживал песнь моей религии, чтобы тронуть ею присутствующих; я начинал с отдельных слабых тонов и вскоре, увлекаемый юношеским пылом, доходил до полнейшей гармонии религиозных чувств! Но ничто не пробуждалось и не откликалось мне в слушателях. И эти слова, которые я теперь доверяю более многочисленному и изменчивому кругу, печально вернутся ко мне от многих из вас, не принеся добра, которое они могли бы дать, останутся непонятыми и не пробудят даже малейшей догадки о своем назначении! И как часто все провозвестники религии – и я вместе с ними – еще вновь испытают эту предопределенную нам участь! И все же это никогда не будет мучить нас, ибо мы знаем, что иначе и не могло быть, не выведет нас из спокойного равновесия и никогда не заставит нас навязать наше умонастроение каким-либо иным путем, – ни этому, ни грядущему поколению. Если каждый из нас сознает в себе отсутствие немалого из того, что принадлежит к цельной человечности, если многим недостает столь многого, – то не удивительно, что велико и число тех, кому не суждено было развить в себе религию! И оно необходимо должно быть велико: ибо иначе как могли бы мы прийти к представлению о ней самой в ее – я готов сказать – воплощенном историческом бытии и о границах, которые она со всех сторон ставит другим человеческим способностям, в свою очередь многообразно ограничиваемая ими? Откуда бы мы знали, что́ человек способен совершить в разных областях без нее и в чем она препятствует и содействует ему? Как могли бы мы чуять ее действие в нем даже там, где он сам его не сознает? Особенно соответствует природе вещей, что в наше время всеобщего смятения и переворота тлеющая искра религии не разгорается во многих, и, как бы любовно и терпеливо мы ни взращивали религию, нам не удается оживить ее даже в тех, в ком при более счастливых обстоятельствах она преодолела бы все препятствия. Где ничто из всех человеческих дел не остается непоколебленным; где каждый видит, что все, определяющее его место в мире и связующее его с земным порядком вещей, ежемгновенно может не только быть утрачено им и попасть в руки другого, но и совсем потонуть в всеобщем водовороте; где одни употребляют все усилия и призывают со всех сторон помощь, чтобы удержать то, что́ они считают устоями мира и общества, искусства и науки и что́ теперь, в силу какого-то неописуемого рока, как бы само собой внезапно отрешается от своих глубочайших основ и опрокидывает то, что на нем покоилось; где другие со столь же неутомимым усердием трудятся над очищением пути от обломков рухнувших веков, чтобы первыми заселить плодотворную почву, которая на их глазах образуется из быстро остывающей лавы ужасного вулкана; где каждый, даже не покидая своего места, так сильно испытывает бурные потрясения, что среди всеобщего шатания он рад, если ему удается остановить свой взор хотя бы на отдельном предмете, держаться за него и постепенно убедиться, что хоть что-нибудь стоит на месте, – в таком состоянии было бы безумно ожидать, что многие окажутся в силах развить и сохранить в себе религиозные чувства, которые лучше всего созревают в спокойствии. Правда, среди этого брожения облик нравственного мира более, чем когда-либо, величествен и возвышен, и теперь в одно мгновение можно уловить более значительные черты, чем прежде, быть может, за целые века; но кто может спастись от всеобщей суеты и тесноты? Кто может избегнуть власти более ограниченных интересов? У кого достаточно спокойствия, чтобы стоять на месте, и устойчивости, чтобы непредвзято созерцать? Но даже предполагая самые счастливые времена и лучшее желание не только пробуждать склонность к религии там, где она уже имеется, но и прививать и вселять ее всевозможными путями, – где же есть такой путь? Деятельность и искусство человека может осуществить в другом человеке лишь одно: сообщить ему свои представления, приобщить их к составу его мыслей и настолько сплести их с его собственными представлениями, чтобы он всегда мог в надлежащее время вспомнить о них; это может быть в силах человека, но никогда он не может заставить других из себя создавать желанные ему мысли. – Вы видите это противоречие, которое нельзя даже устранить из слов. Даже к тому человек не может быть приучен, чтобы на определенное впечатление, всякий раз, когда оно испытывается, в нем следовала определенная реакция; еще менее можно достигнуть того, чтобы, помимо этого слияния, свободно созидать желаемую внутреннюю деятельность. Словом, всякий может до некоторой степени воздействовать на механизм духа, но никто не может по произволу проникнуть в его органическую жизнь, в эту священную мастерскую вселенной; здесь никто не может изменить или переместить что-либо, отрезать или дополнить, и разве только удается искусственно задержать, именно через механизм, развитие духа. Итак, можно, правда, насильственно изувечить часть растения, но не взрастить его; ибо именно из этого, недостижимого для чуждой силы нутра его организации должно произойти все, что может принадлежать к подлинной жизни человека и быть в нем вечно действенным и живым побуждением. И такова именно религия; в душе, которую она обитает, она непрерывно действенна и жива: все она делает своим объектом, и всякая мысль и всякое действие становятся темой ее небесной фантазии. Именно поэтому она, как и все, что, подобно ей, должно быть всегда присущим человеческой душе и живым в ней, лежит далеко за пределами того, чему можно обучить или что можно привить. Поэтому для всякого, кто так смотрит на религию, преподавание религии, в том смысле, как будто можно обучить самому благочестию, есть пошлое и бессмысленное слово. Наши мнения и учения мы можем, конечно, сообщить другим – для этого нам нужны только слова, а для слов нужна только воспринимающая и воспроизводящая сила рассудка; но мы хорошо знаем, что это – лишь тени наших религиозных чувств; и когда наши ученики не разделяют с нами последних, то, если они даже действительно понимают сообщаемое как мысли, они не приобрели этим ничего подлинно ценного. Ведь нельзя научить сознавать саму эту внутреннюю возбужденность и внутреннее слияние с мыслями; и даже человек, всецело проникнутый религиозным пылом, человек, который умеет из всех окружающих его предметов впитывать в себя первичный свет вселенной, – все же не может словами поучения перенести из себя в других эту силу и способность. Существует, правда, способность подражания, которую мы можем в некоторых людях пробудить настолько, что когда перед ними в сильных тонах изображаются священные чувства, им легко вызвать в себе душевные движения, отдаленно сходные с теми, которыми полна наша душа: но разве это проникает в их внутреннее существо? Разве это есть религия в истинном смысле слова? Если вы хотите сравнить вселенское чувство с художественным, то вы не должны сопоставлять этих обладателей подходящей религиозности, как их можно было бы назвать, с теми, кто, не создавая сами произведений искусства, все же умиляются и восторгаются тем, что им удается увидеть. Ибо художественные произведения религии выставлены всюду и всегда; весь мир есть галерея религиозных картин, и каждый человек находится среди них. Нет, вы должны их уподобить тем, которым нельзя внушить чувства иначе, как снабдив их комментариями и вымыслами о произведениях искусства, как лечебным возбудительным средством против их отупевшего жизненного чувства, и которые и тогда могут лишь пробормотать на плохо понятом искусственном языке мало подходящие и по существу чуждые им слова. Только этого, а не большего, вы можете достигнуть одним обучением; это есть цель намеренного преподавания и упражнения в этих вещах. Покажите мне кого-либо, кому вы привили или внушили силу суждения, дух наблюдательности, художественное чувство или нравственность; и тогда я возьмусь обучать и религии. Правда, в ней существует учительство и ученичество, существуют отдельные люди, к которым примыкают тысячи других, но эта связь не есть слепое подражание, и не потому они ученики, что их сделал таковыми учитель, а потому он учитель, что его избрали себе ученики. Но кто проявлениями своей собственной религии возбудил ее в других, тот уже не имеет власти удержать их при себе: и если их религия живет, то она свободна и идет своим собственным путем. Как только священная искра разгорается в душе, она превращается в свободное и живое пламя, которое питается своею собственной атмосферой. Это пламя освещает душе более или менее весь мир, и душа может поселиться по собственному побуждению и далеко от того места, где она впервые была возжена к новой жизни. Лишь из чувства своего бессилия и своей ограниченности, побуждаемая своей первичной внутренней природой осесть в определенной местности, она, не теряя благодарности к своему первому путеводителю, выбирает климат, который ей более всего подходит; и здесь она ищет себе средоточия, направляемая свободным самоограничением по новому пути, называет своим учителем того, кто впервые воспринял эту ее излюбленную местность и изобразил ее великолепие, и следует за ним по собственному избранию и свободной любви. Итак, я не хочу прививать религию вам или другим, или поучать вас, как вы сами можете намеренно и искусственно взрастить ее в себе; нет, я не хочу покидать область религии, что́ ведь было бы неизбежно при этом, я хочу, напротив, подольше остаться в ней вместе с вами. Вселенная сама создает себе своих созерцателей и поклонников, и мы попытаемся теперь посмотреть, как это совершается, поскольку это может быть усмотрено.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]](/books/1064805/fridrih-shlejermaher-rechi-o-religii-k-obrazovannym.webp)

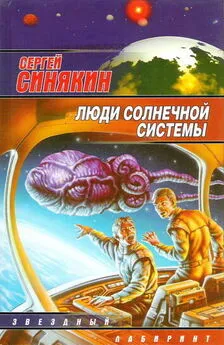
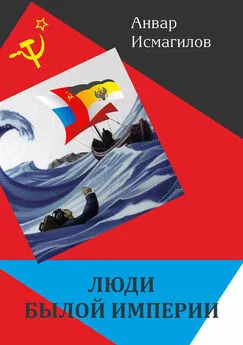
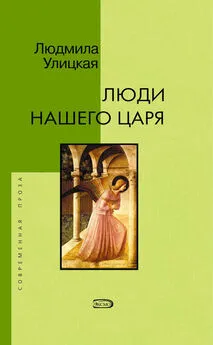
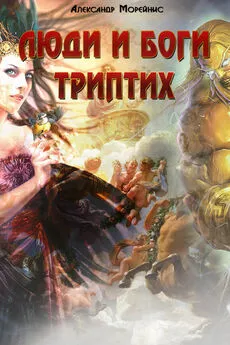
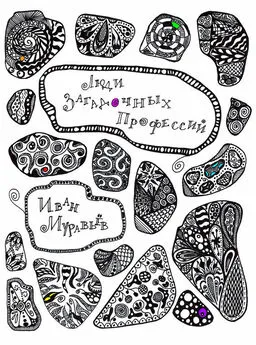
![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)