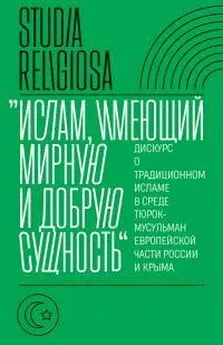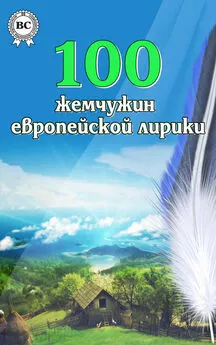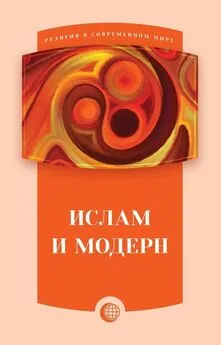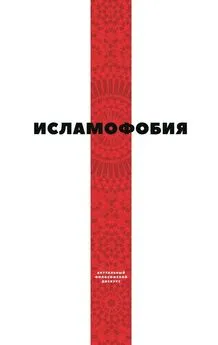Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Название:«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма краткое содержание
«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выступление муфтия Эмирали Аблаева на встрече было еще более эмоциональным:
Крымские татары, находясь вдалеке от Родины, умирая от голода и болезней в бараках, не вставали с колен и не унижались ни перед кем, не забыли родного языка, наши обычаи и традиции, не предавали национального движения крымских татар и людей, которые посвятили свою жизнь делу возрождения нации. Но сегодня среди нас появились те, кому эмиссары из далекой страны оказались ближе и дороже собственного народа, те, кто готов перечеркнуть и забыть все: свою национальность, род, национальные традиции и обычаи [616].
В своем выступлении на этой же встрече М. Джемилев призвал защитить единство крымских татар и противостоять арабским эмиссарам в распространении различных идеологий в Крыму. Уже в начале марта 2001 г. он провел совещание главных редакторов крымскотатарских средств массовой информации с целью организовать разъяснительную работу для противодействия дальнейшему распространению «ваххабитских идей» [617].
Противоречия официальных крымскотатарских структур с представителями «чуждых» исламских течений стали приобретать настолько значимый характер, что их обсуждение было вынесено в повестку дня национальных съездов [618]. Так, в ходе первой сессии IV Курултая крымскотатарского народа, состоявшейся 9–11 ноября 2001 г. в Симферополе, по итогам обсуждений было принято заявление «О возрождении религиозной жизни крымских татар и сохранении религиозной толерантности в Крыму». В нем содержится призыв к сохранению традиционных для крымских татар исламских норм и обычаев, переданных «предыдущими поколениями мусульман Крыма», и осуждается деятельность исламских миссионеров, подвергающих эти нормы и обычаи критике [619].
На последующих Курултаях крымскотатарского народа критика деятельности представителей разных исламских течений в Крыму принимает больший масштаб. В отчетном докладе М. Джемилева на третьей сессии IV Курултая (10–12 сентября 2004 г.) дается критический анализ деятельности исламской оппозиции в Крыму, представленной сторонниками салафитов и партии «Хизб ут-Тахрир». В итоге Курултай принял Обращение к мусульманам Крыма, в котором призвал их объединить усилия в возрождении и сохранении «истинных» ценностей ислама, ценностей, «ставших опорой и спасением нашему народу и в самые славные, и в наиболее трагические периоды его истории» [620].
О степени озабоченности Меджлиса активностью религиозной оппозиции в Крыму говорят тон и содержание выступления М. Джемилева на следующей, четвертой сессии IV Курултая (9 декабря 2005 г.). В части своего выступления, озаглавленной как «Религиозные секты в Крыму», председатель Меджлиса предложил делегатам обобщенную картину деятельности этих групп. Джемилев привел данные об их численности, идеологических воззрениях, разногласиях с руководством ДУМК и даже друг с другом. Его выступление содержало призыв к делегатам Курултая принять необходимые меры для борьбы с данными «сектами» [621].
Жесткую оценку деятельности «религиозных сектантов» Джемилев дал в своем выступлении на первой сессии V Курултая (декабрь 2007 г.), в котором перечислил основные претензии к ним: объявление Меджлиса и Муфтията структурами «неверных» [622], отрицание национальностей и призывы бороться за создание «мифического» исламского халифата, непризнание национального флага и гимна и др. [623]По словам Джемилева, деятельность сторонников «нетрадиционной формы ислама» – это прямой удар по национальному движению за восстановление прав народа и как раз на руку тем внешним силам, которые препятствуют в этом крымским татарам [624].
После выступления муфтия Эмирали Аблаева на второй сессии V Курултая крымскотатарского народа (5 декабря 2009 г.) делегаты приняли постановление «О задачах органов национального самоуправления по укреплению духовного единства крымскотатарского народа», в котором это единство виделось главным фактором возрождения и развития крымскотатарской нации. В документе был определен круг мер, направленных на сохранение ценностей материальной и духовной культуры крымских татар, унаследованных ими от предшествующих поколений [625].
Анализ представленных выше заявлений и документов политических и религиозных институтов и лидеров крымских татар позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, дискурс «своего/чужого» ислама появился в Крыму (в отличие от других регионов постсоветского пространства) сравнительно поздно, лишь в самом конце 1990‐х гг. Именно к этому времени группы сторонников разных исламских течений оформились в относительно устойчивые сообщества со своими лидерами, дискурсами и практиками. Их демонстративное противопоставление себя основной массе крымских татар, воспринимавших ислам только как часть культурной традиции народа, и открытая критика политики, проводимой Меджлисом и ДУМК, уже не могли оставаться незамеченными. Противоречия приобрели конфликтный характер и были вынесены в публичную сферу.
Во-вторых, лидеры Меджлиса и ДУМК в 1990‐х – начале 2000‐х гг. не видели принципиальной разницы между салафитами и последователями «Хизб ут-Тахрир». Обе группы воспринимались как «чуждые» крымскотатарскому народу, ведущие политику, направленную на размывание его этнической идентичности. Буквализм в интерпретации исламских источников салафитов и призывы к построению халифата сторонников «Хизб ут-Тахрир» виделись в равной степени опасными. В ситуации, когда лидеры Меджлиса и ДУМК использовали ислам как важный ресурс мобилизации крымских татар для решения различных политических и социально-экономических вопросов, такое поведение части народа воспринималось ими как предательство национальных интересов. Отношения Меджлиса с исламом в тот период в целом могут быть охарактеризованы как «инструментальный благочестивый национализм». Этот термин был введен американским политологом Барбарой-Энн Рифер для характеристики ситуации, при которой религия не является центральной категорией в деятельности организации, но представляет собой вспомогательный элемент для единения сообщества и ресурс влияния на него [626]. Так как ислам – важный компонент крымскотатарской идентичности, светские лидеры использовали его для собственной легитимации и повышения лояльности этнической группы по отношению к своей политике.
В-третьих, несмотря на то, что такие слова и понятия, как «традиция», «традиционная форма ислама», «национальные традиции» и др., использовались часто для обозначения «своего» ислама, в крымскотатарском дискурсе того периода не было устоявшего концепта, который бы олицетворял этот ислам. В ходу были такие понятия, как «крымский ислам» [627], «крымскотатарский ислам», «наш ислам», «истинный ислам» и др. Концепт «традиционного ислама» хождения практически не имел. Он встречался порой в работах некоторых исследователей, но частью общественного дискурса так и не стал [628]. Не было в Крыму и обобщенного концепта «чужого» ислама. Для его обозначения использовались такие слова и выражения, как «секты», «нетрадиционная форма ислама», «новое течение ислама», «ваххабиты» и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: