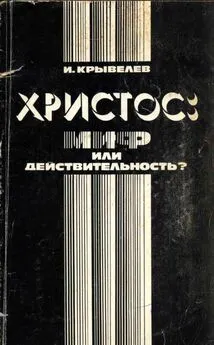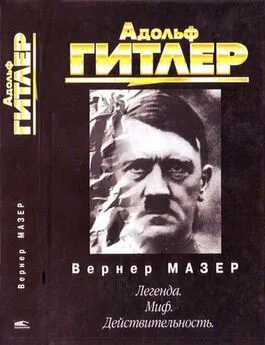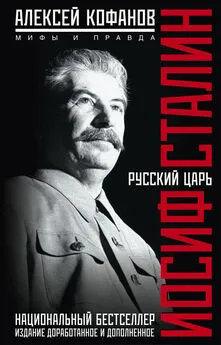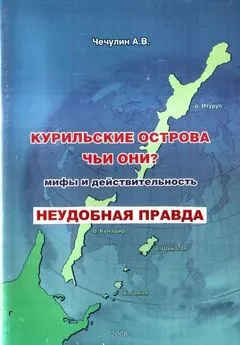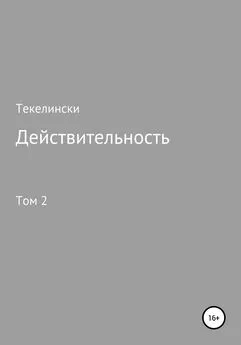Иосиф Крывелев - Христос: миф или действительность?
- Название:Христос: миф или действительность?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Общественные науки и современность
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Крывелев - Христос: миф или действительность? краткое содержание
Эта книга, написанная в 1986 и опубликованная в 1987 в издательстве «Наука», является попыткой обзора всех основных концепций, которые окружают такую личность как Иисус Христос. В книге рассмотрены различные подходы к возможной историчности существования Христа, а так же взгляды, которые отстаиваются различными исследователями — от последовательно верующих, так и догматически отрицающих его возможное существование. После обзора, автор книги приводит различные исторические факты, которые так или иначе не вписываются в основные направления т. н. «христологии».
Эта работа, как и книги И.А. Крывелева вообще, ценны, прежде всего, наличием огромного фактического материала. Несмотря на некоторую идеологическую направленность предлагаемой вниманию читателя книги и постоянные в ней ссылки на «коммунистические первоисточники», книга построена вполне добротно и заслуживает внимания.
Автор полностью не отрицает того, что прототип Христа мог существовать, и что последний лишь плод воображения низших слоев населения Римской Империи. Однако он придерживается вполне закономерного подхода — считать историчным не только того Христа, который описан в евангелиях, но и вообще какой-либо его прототип, не имея достаточного количества непротиворечивых фактов, — некорректно. Это не означает, что прототипа принципиально не было, это лишь вопрос вероятности: он мог существовать, а мог и нет. Поскольку фактов для существования Иисуса не достаточно, то признание историчности Христа с тем фактическим материалом, которым обладает история и археология на сегодняшний день, остается лишь объектом веры.
Христос: миф или действительность? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое решение производит переворот и в его поведении. С этого момента кончается всякая двойственность, всякое тактическое маневрирование. «Мы видим его снова цельным и без малейшего пятнышка. Все уловки полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя бесов теперь забыты. Остается лишь несравненный герой страстей…» [57] Ibid., p. 371.
. И здесь Ренан опять-таки схематизирует евангельские повествования. Ведь в них «несравненный герой страстей» впадает в полное малодушие. Правда, Ренан отмечает, что в какой-то момент страх, сомнение овладели им и повергли его в состояние слабости, которое хуже всякой смерти, но этот момент он относит к периоду, предшествовавшему героическому решению Христа «испить чашу до дна», после чего Христос якобы уже больше ни в чем не колеблется.
В общем, Ренан создал яркий и контрастный психологический образ человека трагической судьбы, притом человека весьма недюжинного. Ренановский Иисус — личность великого масштаба, но такого же масштаба и присущие ей чисто человеческие страсти, противоречия и слабости. Фигура Иисуса в изображении Ренана выглядит психологически правдоподобной. В какой-то мере она правдоподобна и исторически, хотя критики почти единодушно упрекали автора в том, что он изобразил Иисуса по своему образу и подобию как парижанина эпохи Второй империи — бурно темпераментного и сентиментального, изящного, остроумного и не очень последовательного в своих словах и действиях. При всем этом нельзя не видеть в конструкции Ренана настойчивое стремление рассматривать фигуру Иисуса в свете исторических и географических условий древнего Востока.
И самое важное — эта конструкция в значительно большей мере базируется на художественной фантазии выдающегося писателя Эрнеста Ренана, чем на объективных свидетельствах исторических документов.
Душевнобольной? (по Ж. Мелье, А. Бинэ-Сангле и Я. Минцу)
Трудно сказать, кто первый в литературе высказал такой дерзкий взгляд. В отчетливой форме мы впервые находим его сформулированным в «Завещании» Жана Мелье, французского католического священника конца XVII — начала XVIII века, о котором лишь после его смерти стало известно, что всю жизнь он был законченным и последовательным атеистом.
Его отношение ко всякой религии, в том числе к христианству, было непримиримо отрицательным и враждебным. Тон, в котором он говорил о религии, христианстве, о Христе, может показаться чересчур резким, а применяемые им выражения даже бранными. Его можно, однако, понять. Это было время полного и безраздельного господства церкви если не над умами людей, то над их жизнью и судьбами. Малейшее открытое выступление против догматов христианства могло привести человека на костер инквизиции. Самому Мелье пришлось всю жизнь держать свои убеждения при себе и при этом выполнять обязанности сельского священника. Не удивительно, что у него накапливалась с трудом сдерживаемая ярость, выход для которой он давал, лишь оставаясь наедине с самим собой и со своими рукописями. А в общественной атмосфере того времени все более обострялись противоречия между феодальной аристократией, опиравшейся на церковь, и подымавшими голову народными массами. Одним словом, это была предгрозовая атмосфера кануна Французской буржуазной революции.
Не только для Мелье, но и для других идеологов французского Просвещения христианство представлялось остро и непримиримо враждебной идеологией, о которой они говорили с ничем не сдерживаемой ненавистью. Вольтер, Гольбах, Дидро и их соратники обрушивали на христианство и на Христа потоки сарказмов, яростных издевательских насмешек, беспощадных разоблачений. В таком духе говорил о Христе и Жан Мелье.
Он не ограничивался тем, что именовал Иисуса Христа «ничтожным человеком, который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершенно презираем в мире» [58] J. Meslier. Le testament. Amsterdam, 1864, v. 2, p. 41.
. К таким эпитетам, как «жалкий фанатик и злополучный висельник», он присоединял еще и его характеристику как «сумасшедшего безумца». Можно было бы подумать, что Мелье имеет здесь в виду лишь ругательный смысл этого выражения, а не обозначение человека с расстроенной психикой. Однако дальнейшее изложение свидетельствует о том, что он имел в виду именно душевную болезнь, сумасшествие в клиническом смысле этого слова. При этом он нередко в качестве синонима к слову «сумасшедший» применяет термин «фанатик». В частности, Мелье берется «доказать и показать, что он (Христос. — И. К. ) воистину был сумасшедшим безумцем, фанатиком» [59] Ibid., p. 42.
.
Для доказательства этого Мелье приводит три группы аргументов. «Во-первых, мнение, которое составилось о нем в народе; во-вторых, его собственные мысли и речи; в-третьих, его поступки и его образ действий» [60] Ibidem.
.
В евангелиях Мелье обнаруживает много мест, из которых следует, что окружавшие Иисуса люди в ряде случаев признавали его умственно ненормальным. Каждый раз, когда он говорил им «грубости, глупости и вздор», фарисеи и книжники начинали подозревать, что он одержим бесами. Даже некоторые из учеников Христа, когда он «сказал иудеям, что даст им есть свою плоть и пить свою кровь», отделились от него и покинули его, правильно заключив по этой речи, что он «не более, как безумец!» [61] Ibid., p. 44.
. Правда, иногда среди слушавших Иисуса обнаруживались разногласия по поводу оценки его личности: «Одни говорили, что он добр, другие говорили: нет, он обольщает народ, а большинство считало его сумасшедшим и безумцем и говорило: он одержим бесом и безумствует…» [62] Ibidem.
. Родные и близкие тоже подозревали Иисуса в том, что он лишен рассудка. Однажды, рассказывается в евангелии, они пошли за ним, чтобы увести его домой, «ибо говорили, что он впал в безумие».
В этом свете толкует Мелье и свидание Иисуса с Иродом Антипой. Четвертовластник («тетрарх» — наместник одной из четырех палестино-сирийских областей) полагал, что к нему ведут чудотворца, который покажет ему много занятного, и с нетерпением дожидался его прихода. Но, поговорив с ним, он понял, с кем имеет дело, и отослал его обратно. А сопровождавшие Иисуса иудеи издевались над ним, как над сумасшедшим, вообразившим себя царем: дали ему в руки вместо скипетра трость, оказывали другие шутовские почести. «Из всех этих свидетельств видно воочию, что в народе действительно смотрели на него, как на сумасшедшего, безумца и фанатика» [63] Ibid., p. 46.
. Приведенные в евангелиях мысли и изречения Иисуса дают Мелье основание утверждать справедливость такого заключения.
Он приводит заявление Христа, свидетельствующее о том, что тот рассматривал себя как существо, призванное совершить небывалые и неслыханные доселе дела: он должен стать царем иудеев и вечно над ними царствовать, а заодно и спасти весь мир; он должен создать новые небеса и новую землю, где будет царствовать со своими апостолами, которые, сидя на двенадцати престолах, будут судить все человечество; он собирался спуститься с неба во главе сонма своих ангелов; он считал себя в силах воскресить всех мертвых и предохранить от смерти тех людей, которые уверуют в него. Короче говоря, «он мнил себя всемогущим и вечным сыном всемогущего вечного бога». Мелье сравнивает эти фантазии с тем, что могло прийти в голову Дон-Кихоту, и утверждает, что «фантазии и мысли» последнего, «при всей их неуравновешенности и ложности, никогда не были нелепы в такой крайней мере» [64] Ibid., p. 48.
. Тот способ, которым Христос толковал ветхозаветные пророчества, в частности тексты пророка Исаии, опять-таки, по Мелье, обнаруживают лишь болезненное направление ума.
Интервал:
Закладка: