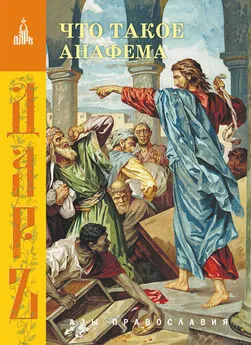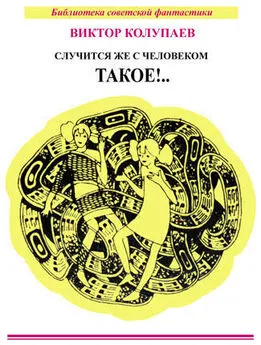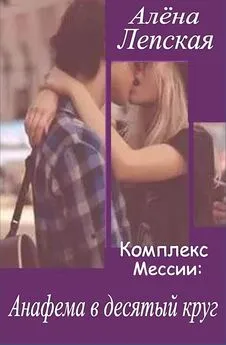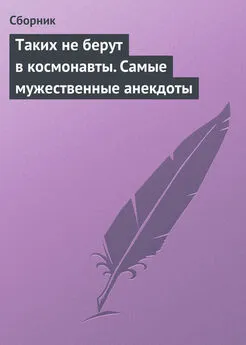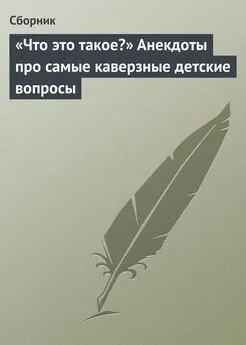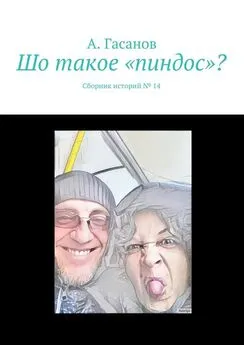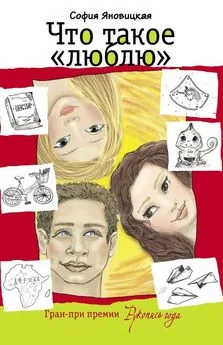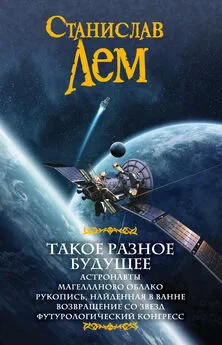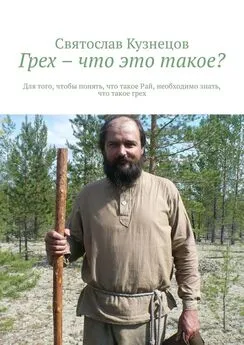Сборник - Что такое анафема
- Название:Что такое анафема
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Белый город»08eeed96-6db7-11e5-8f01-0025905a069a
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-4850-0101-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник - Что такое анафема краткое содержание
Часто мы слышим это страшное слово – анафема, – не задумываясь над его смыслом. Одни считают анафему отлучением от Церкви, другие – проклятием, подобным духовной смерти. Для чего же проповедующая любовь и милосердие Церковь произносит это жестокое слово? В этой книге собраны исторические и богословские труды о сущности анафемы и о возрождаемом ныне в богослужебной жизни чине анафематствования, совершаемом в первое воскресенье Великого поста – в Неделю Православия. В ней приводится мнение об анафеме святых Православной Церкви (свт. Иоанн Златоуст, свт. Игнатий (Брянчанинов), св. Иоанн Кронштадтский), современных богословов (диакон Андрей Кураев), а также определения Св. Синода и акты Архиерейских Соборов об отлучении от Церкви известных исторических лиц с древних времен и до настоящего дня. Надеемся, что книга поможет Вам понять это врачующее действие Святой Церкви, призванное оградить церковный народ от духовных болезней – ересей и расколов.
Что такое анафема - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, у нецерковных людей есть юридическое право на проповедь нехристианских систем мировоззрения. Но и у Церкви есть право при встрече с суррогатами предупреждать: это подделка. Церковь имеет право на полемику, имеет право отвечать на обвинения, которые высказываются в ее адрес, и имеет право не допускать к своим Таинствам людей, которые кощунственно к этим же Таинствам относятся.
Когда в начале XX века Синод сделал заявление о том, что Лев Толстой своими антихристианскими убеждениями поставил себя вне Церкви, графиня София Толстая ответила довольно раздраженным письмом: «Прочитала вчера в газетах жестокое распоряжение Синода об отлучении от Церкви мужа моего… Горестному негодованию моему не было пределов».
В ответ один православный интеллигент вполне резонно заметил: «Но позвольте, графиня, что такое случилось? Разве Вы до сего дня, до дня опубликования синодального определения, вовсе не знали, что пишет и печатает Ваш супруг? Почему же он может всячески поносить Церковь, издеваться над Нею и Ее святынями, кощунствовать, оскорблять совесть верующих, а Церковь не может сказать спокойно своим верным чадам: берегитесь Толстого, он сам себя отлучил от Церкви? Если это кажется для Вас неожиданным, то приходится лишь удивляться Вашей недальновидности. Негодовать на то, что Церковь спокойно сделала предостережение своим чадам от заблуждений, какие распространяет Ваш муж, что она открыто объявила пред целым светом, что он прервал с нею общение, что поэтому и она не считает его своим членом, что она приглашает всех верующих даже к молитве, чтобы Господь вразумил Вашего мужа – негодовать на это, простите, по меньшей мере, непонятно» [132].
Одно ли и то же – веровать в Бога Творца или исповедовать материализм? Все ли равно – исповедовать тайну Боговоплощения или же утверждать, что «понимать Христа Богом и молиться Ему – величайшее кощунство»? Относится ли к числу «обрядовых мелочей» различие в понимании молитвы Толстым («молитва есть напоминание себе о смысле жизни») и живым, религиозным пониманием молитвы как реального обращения человеческой личности к Личности Творца?
Имел бы право Лев Николаевич возмутиться, если б узнал, что его обозвали «зеркалом русской революции»? (А кстати, может, и в самом деле – «зеркало»? Эмиссары, громившие храмы и из церковных риз делавшие портянки, не глазами ли Льва Николаевича смотрели на храм?)
Вот так же и церковные люди выступают с возражениями, когда их вера – вера апостолов и отцов Церкви, вера Евангелия и вера оптинских старцев – подвергается осмеянию или ложным перетолкованиям.
В храмы приходит немало людей, зашедших туда по наводке «колдунов-целителей». Они не Христа ищут, и послали их туда «подзарядиться Осмосом» или «почистить карму».
И церковные люди просто обязаны объяснять этим людям, что храм – это не «космодром». Им надо объяснять, что их просто обманули, что путь ко Христу лежит совсем иначе – мимо «целителей», мимо знахарей, мимо астрологов.
Точно так же тем действительно уже многочисленным людям, которые полагают, что православность (понимаемую скорее чисто этнографически) можно сочетать с теософией, Церковь должна была пояснить: не обманывайтесь. У Христа нет общения с магами.
В том, что Церковь уносит Чашу с искупительной Кровью Христа от тех, кто не считает ее таковой, – рериховские публицисты видят чуть ли не хулиганство: «Ясно, что долбя дубинкой по головам инаковерующих отлучениями, запретами и угрозами – не причащать, не крестить, не отпевать (так нам обещал А. Кураев) – дело не поправить». Помилуйте, да где же здесь дубинка? Тайная вечеря потому и была тайной, что язычники и нехристиане на нее не были приглашены. То, что Спаситель не позвал на эту вечерю иудеев – означает ли, что Он носился по улицам Иерусалима, «долбя дубинкой по головам инаковерующих»?
Можно ли сказать, будто Христос прибег к репрессиям только на том основании, что Он причастил только апостолов, а не римских легионеров? А ведь по В. Сидорову так именно и получается: «Церковь испугалась. Постановление Архиерейского Собора свидетельствует, что она стала на порочный путь запретительных, репрессивных мер».
Церковь не наказывает отлучением от себя, как не наказывает больного врач, ставя ему диагноз.
Отлучение от Церкви и есть диагноз: душа человека поражена гангреной, опухоль гордыни начала застилать глаза несчастному настолько, что он уже не видит неба, не видит ничего, кроме себя самого и своей «правоты». Именно это – «гордыню» – увидел в Толстом оптинский старец.
Ту же болезнь в душе Льва Толстого увидела Александра Андреевна Толстая: «Он издевался над всем, что нам дорого и свято… Мне казалось, что я слышу бред сумасшедшего… Наконец, когда он взглянул на меня вопросительно, я сказала ему: «Мне нечего Вам ответить; скажу только одно, что пока Вы говорили, я видела Вас во власти кого-то, кто и теперь еще стоит за Вашим стулом». Он живо обернулся. «Кто это?» – почти вскрикнул он. – «Сам Люцифер, воплощение гордости».
И не та же ли страсть богоборческой гордыни понуждает оккультистов называть себя самих «Христами»?
Идеология, рожденная гордыней, не может соединить людей, она лишь будет все более и более их разъединять. Так, Лев Толстой, призывающий всех людей к миру и пониманию, к соединению и солидарности, именно в духовной области не смог почувствовать себя единым с народом Божиим, с апостольской Церковью. Толстой был готов собирать «крупинки мудрости» в Kитае и в Индии. И лишь духовной мудрости православия не хотел он замечать.
И проповедь Рерихов привела не к объединению людей, а всего лишь к появлению еще одной религиозной группы, противопоставляющей себя всем остальным и всех, кроме себя, именующей «невеждами».
Душа даже самого одаренного человека может быть поражена духовной болезнью. В конце концов, какая разница, чья это душа: гениального писателя или портового грузчика?! Страсти всюду действуют одинаково, разве что художнику надо быть особенно настороже, ибо обостренно чуткая и впечатлительная его душа может легче души «простолюдина» поддаться на зов страсти. Да, гении тоже болеют, и душа у таких людей нуждается в той же благодатной защите, что и любого человека. Рерихи, как ранее Толстой, эту защиту отвергли. Почему же духовная болезнь в их душах должна была протекать как-то иначе, чем в душе запойного крестьянина или неискреннего монаха?
Но когда эта болезнь стала опасной для окружающих, когда они стали износить из своих душ слово, отмеченное не Христовым духом, Церковь должна была предупредить всех православных о небезопасности взглядов семьи художников: любое поклонение твари вместо Творца есть отречение от Бога, а вытекающее из этого отречения заигрывание с оккультными духовными силами чревато серьезнейшими опасностями и для самого увлекшегося человека, и для тех, кто живет рядом с ним.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: