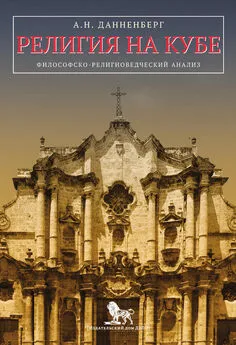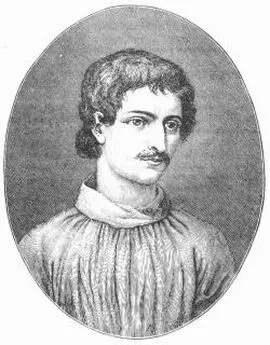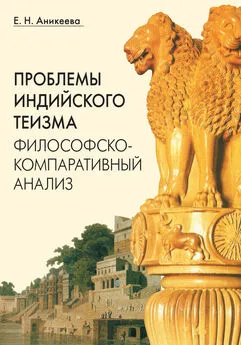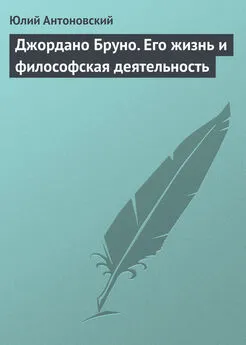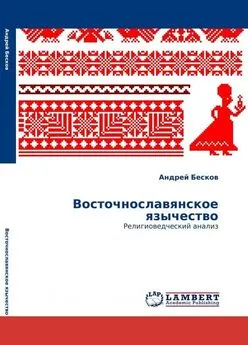Антон Данненберг - Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ
- Название:Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентРАНХиГС (Дело)ed740fe7-6753-11e5-8380-0025905a0812
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7749-0929-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Данненберг - Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ краткое содержание
В монографии рассматривается процесс развития христианства на Кубе в условиях политической и социально-экономической трансформации в XX – начале XXI в. Динамика религиозной жизни анализируется автором в контексте теорий секуляризации и кризиса католицизма, сквозь призму изменения религиозного сознания, как системообразующего компонента религии.
Выдвигается и обосновывается тезис взаимообусловленности религиозных систем как конкретно-исторических форм бытия религий и форм социокультурного бытия, соотнесенных с этапами развития и становления общества.
На основе проведенного анализа автором делается вывод о формировании в начале XXI в. на Кубе своеобразной синкретической религиозной системы, включающей в себя элементы христианства и традиционных африканских верований.
Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В монографии автором проводится анализ разработки проблемы религиозного сознания в религиозных, философских и религиоведческих концепциях, а также религиозной ситуации в Латинской Америке и делается вывод о существенных сдвигах в религиозном сознании населения стран субконтинента в сторону восприятия религиозной множественности и медленному переходу от католической мононаправленности к конфессиональному многообразию.
Безусловно, применение положений теории религиозного плюрализма по отношению к ситуации на Кубе требует некоторых оговорок. В первую очередь, это касается специфики этнорелигиозной и исторической традиции. Сантерия представляет собой реальную альтернативу католицизму, но выбор в ее пользу населением делается исходя не из генезиса религиозного сознания в сторону расширения взглядов и формирования «религиозного супермаркета», а ввиду национальной специфики. То есть общемировая тенденция падения влияния классического христианства сопрягается в данном случае с особенностями религиозной традиции.
Следует отметить, что помимо католицизма и скрывающейся за его фасадом сантерии на Кубе уже не первое столетие присутствуют протестантские церкви и иудейские общины. В монографии им посвящены отдельные параграфы, раскрывающие особенности их функционирования и внутреннюю сущность.
В процессе работы над монографией автором была осуществлена научно-исследовательская поездка на Кубу, в ходе которой был собран актуальный этнографический материал (фото, записи бесед, участие в церемониях и обрядах и т. д.), значительная часть которого вошла в работу.
Глава I
Религиозное сознание: теоретико-методологический аспект
1.1. Рассмотрение происхождения религиозного сознания в религиозных и философских концепциях
На протяжении всей мыслительно-творческой истории человечества проблема природы религиозного сознания рассматривалась с двух основополагающих позиций: религиозной и атеистической. В ряде случаев мы можем говорить и об агностицистической позиции. Религиозное сознание может рассматриваться как проявление (элемент) сознания общественного/индивидуального, или же – как эманация божественного, богоданность: в зависимости от занимаемой позиции формируется весь мировоззренческий комплекс исследования. Выбор причины ведет к детерминированию следствия как онтологическому и гносеологическому заключению. Религиозное сознание становится либо самоценностью, либо исключительно приложением к общественному развитию.
Нематериальность содержания понятия «духовность» вполне однозначно дает ответ на вопрос, что является своего рода ядром религиозного сознания человека, – вера. Таким образом, вопрос происхождения религиозного сознания – это вопрос причины зарождения веры в Бога.
Мы можем выделить три основных подхода к вопросу веры как имманентно присущему религии параметру: теологический, философский и научный. Различие подходов заключается в истолковании источника веры, то есть природы религиозного сознания.
Теология/богословие (и религиозная философия) однозначно определяет его как сверхъестественный. Сама религиозная вера подразумевает признание без каких-либо доказательств существование трансцендентного, божественного, находящегося за пределами человеческого понимания. Теологический подход основан на рассмотрении вопроса изнутри, что существенно его ограничивает и субъективизирует. Тем не менее ценность его не подлежит сомнению, так как именно он в полной мере позволяет взглянуть на вопрос веры сквозь призму самого религиозного сознания. Безусловно, понимание природы религиозного сознания самим религиозным сознанием было самым ранним, первым этапом в попытке его объяснения.
Начиная с шумерских мифов «Энлиль и сотворение мотыги», «Лето и Зима» и других, аккадского «Энума Элиш» человечество приступило к осмыслению вопросов бытия, своей сущности. Как отмечает С. Н. Крамер, «с точки зрения их интеллектуального содержания шумеро-аккадские мифы обнаруживают довольно зрелый и изощренный взгляд на богов и их божественные деяния, за этими мифами можно опознать серьезные теологические и космогонические размышления» [8].
В этот период существовал единственный подход (естественно-описательный, но не аналитический) к вопросу наличия в человеке веры – она естественна, так как человек сотворен богами. Религиозное сознание объясняло само себя.
Как отмечают ряд авторов, первые сомнения в существовании Бога отмечены уже в древнеегипетском тексте периода Среднего Царства под названием «Песнь арфиста». Древнеегипетский автор вопрошает и рассуждает: «А что с их гробницами?/Стены обрушились,/Не сохранилось даже место, где они стояли,/Словно никогда их и не было./Никто еще не приходил оттуда,/Чтоб рассказать, что там,/Чтоб поведать, чего им нужно,/И наши сердца успокоить,/Пока мы сами не достигнем места,/Куда они удалились» [9]. Затем делается вывод о том, что раз нам ничего не известно о загробном мире, то думать о нем не следует. Лучше веселиться и следовать желаниям сердца. А. Мень отмечает, что «Песнь арфиста» была первым радикальным отрицанием традиционного благодушия магической веры в незыблемый мир [10]. Очевидно, что автор «Песни арфиста» не отрицает богов, но как минимум ставит под сомнение необходимость размышления о посмертном существовании. Если оттуда «еще никто не приходил», чтобы «рассказать что там», то нет никакого смысла посвящать себя здесь потустороннему.
На ранних этапах формирования религиозных представлений, на наш взгляд, не приходится говорить о религиозном сознании как таковом. Это связано с тем, что первобытные религии не подразумевали категории «веры». Верить в силы природы, природные явления и их обобщенные образы не было необходимости, так как они не являлись чем-то абстрактным, но носили наглядный характер. Иными словами, люди не верили, но были уверены. С этим было связано и отсутствие какой-либо рефлексии по поводу происхождения религии, осмысления ее как некоего отдельного от человека явления. Следует согласиться с мнением исследователей, считающих этот период в истории человечества дорелигиозным. Д. Фрэзер определял его как магический, отмечая, что религия за видимой завесой природы предполагает действие стоящих над человеком сознательных или личных сил [11].
Безусловно, сам феномен веры у первобытных людей присутствовал, но это, как ее определил Б. Малиновский, была вера в «изначальное существование магии». Этой вере «сопутствует твердое убеждение в том, что именно благодаря своей совершенной неизменности, благодаря тому, что она передает от одних поколений к другим без малейших искажений или добавлений, магия сохраняет свою действенность» [12].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: