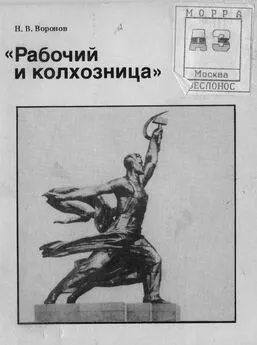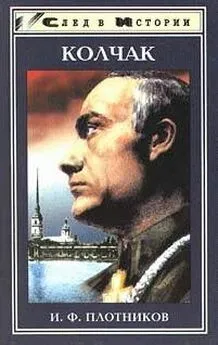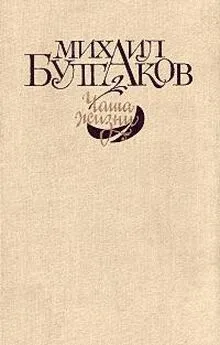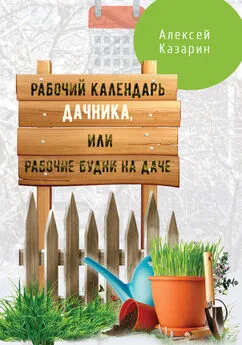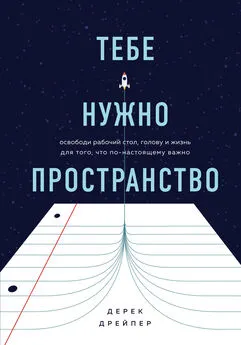Воронов Васильевич - Рабочий и колхозница
- Название:Рабочий и колхозница
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-239-00763-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Воронов Васильевич - Рабочий и колхозница краткое содержание
В75 «Рабочий и колхозница».— М.: Моск. рабочий.— 1990.— 78 с. (Серия «Биография московского памятника»).
«Рабочий и колхозница» — известная скульптурная группа была создана для советского павильона на Международной выставке в Париже в 1037 г. и вновь изготовлена в 1939 г. и установлена на постаменте перед Северным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ныне ВДНХ). Об истории создания этого замечательного произведения скульптора В. И. Мухиной вы прочтете в этой книге.
Рассчитана на массового читателя.
ISBN 5-239-00703—2
Рабочий и колхозница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это произошло потому, что за творческими начинаниями Мухиной всегда стояла большая социальная идея. Если мы будем рассматривать «Рабочего и колхозницу» как выражение принципов социалистического реализма, требовавшего «правдивого, исторически конкретного» отражения действительности, то создание этой статуи в 1937 году на фоне процессов Пятакова, Сокольникова, Радека, самоубийства Орджоникидзе, ареста и последующего суда над Бухариным и Рыковым покажется нам по меньшей мере недостойным явлением.
В чем же причины такого несоответствия искусства реальной обстановке? Тем, кто может предположить, что Мухина могла не знать и не догадываться об истинном положении дел в стране, следует напомнить, что ее муж, доктор А. Замков, и она сама уже испытали арест и высылку в начале 1930-х годов и могли представить существующую реальность. Кстати, процессы 1937—1938 годов, и в частности «исчезновение» некоторых бывших работавших в Париже строителей, в том числе и последующий расстрел И. Межлаука, комиссара нашего павильона, действительно отразились на ее творчестве, в частности на конкурсной работе для Нью-Йоркской выставки.
Мухина в своей парижской статуе не «отражала» историческую конкретность конца 1930-х годов, а создавала символ страны, скульптурное олицетворение тех истинно социалистических идеалов, в которые она, человек искренний и цельный, свято верила. Вера Игнатьевна была воодушевлена строительством нового общества и создавала произведения, в свою очередь вдохновлявшие и воодушевлявшие зрителей. Это подтверждают ее многократные высказывания о новом человеке — идеальном образе гармоничных людей ближайшего будущего, во имя которого она творила и, естественно, должна была прибегать не столько к правдивому отражению натуры в «формах самой жизни», сколько к аллегории и символу. Поэтому она говорила: «Мое мнение, что аллегория и олицетворение и символ не идут вразрез с идеей социалистического реализма». Однако это мнение официальным искусством не разделялось. Она воплощала свои взгляды в собственных работах.
«Рабочий и колхозница» — это, конечно, не образец конкретно-исторической правды, а символ, идеальный образ, сконструированный великим художником. Именно так восприняли скульптуру «Рабочий и колхозница» Луи Арагон, Франс Мазерель, Ромен Роллан. И на юбилейных монетах, выпущенных к 50-летию Октября, наряду с силуэтом легендарной «Авроры» и изображением спутника как символ страны вычеканены фигуры «Рабочего и колхозницы».
Эта статуя — выдающееся произведение отечественного монументального искусства, ибо она ввела в него символ, старательно изгонявшийся ревнителями ортодоксального понимания реализма как конкретно-исторического правдоподобия.
Как и некоторые другие выдающиеся произведения 1930-х годов, «Рабочий и колхозница» не вмещались в прокрустово ложе официального художественного метода. Но если Дейнеку или Герасимова можно было просто отлучить от социалистического реализма, Мейерхольда уничтожить, Филонова сгноить в нищете, то автор «Рабочего и колхозницы» был известен всему миру, а само это произведение, несомненно, способствовало утверждению авторитета Советского Союза, а вместе с тем и прославлению его вождя.
Поэтому по отношению к Мухиной проводилась политика не кнута, а пряника — ее награждали орденами, Сталинскими премиями и почетными званиями, пускали за границу, построили ей специальную мастерскую и т. д. Но вместе с тем персональная выставка ее произведений так и не состоялась, ни одна символическая и аллегорическая ее работа, кроме «Рабочего и колхозницы», так и не была осуществлена, ни одного памятника на военную тему ей не удалось поставить, кроме двух тривиальных бюстов дважды Героям Советского Союза. В угоду официальным вкусам пришлось ей переиначивать проекты памятников Горькому и Чайковскому.
Кроме того, известно, что постоянно травили, а позже просто загубили дело ее мужа — доктора А. Замкова, изобретшего новое лекарство. Такова была плата за единственное символическое произведение, далекое от казарменной художественной доктрины, которое ей удалось осуществить. И платила она всю оставшуюся жизнь.
ВОПРОСЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ
Парижский павильон Б. М. Иофана со скульптурной группой В. И. Мухиной до сих пор считается у нас одним из самых выразительных и полноценных примеров синтеза искусств. Первым и, пожалуй, наиболее четко об этом сказал Д. Е. Аркин, заявивший, что «советская архитектура может по праву зачислить эту сугубо «временную» постройку в число своих бесспорных, непреходящих достижений», поскольку «архитектура и скульптура составляют здесь в полном смысле слова одно целое». Автор отмечает следующие качества, способствующие, по его мнению, осуществлению этого синтеза. «Первым и самым важным» он считает «образную насыщенность... сооружения, его идейную полноценность». Далее он отмечает «постро-енность статуи» и то, что «она ни на миг не разрывала своей изначальной связи с архитектурным целым, от которого она родилась». Затем констатируется «общность» и архитектурного и скульптурного образов, «говорящих в унисон об одном и том же — в различных материалах, разными средствами и в разных формах...». Архитектурная композиция всего этого сооружения предполагает скульптуру как нечто органически обязательное. «Эта внутренняя обязательность сотрудничества двух искусств, эта органичность их связи и являются основными условиями и первыми признаками подлинного синтеза». Анализируя образ павильона в целом, Аркин говорит о том, что общность идеи, воплощенной в архитектурной и скульптурной частях, породила общность движения: «высоко поднятые руки повторяют архитектурный «жест» головной части здания», общность ритма, общность композиции и всего стиля'. Действительно, силуэт здания, нарастающее уступами движение его объемов как бы повторены в скульптурной группе с ее основной диагональю, подчеркнутыми горизонталями рук и шарфа и, наконец, утвердительной вертикалью выставленных вперед могучим шагом ног и высоко поднятых рук. Приводя все эти высказывания, условно говоря, к единому знаменателю, можно констатировать, что в сооружении в целом достигнут синтез по принципу подобия архитектурных и скульптурных форм, масс и объемов.
Синтез по подобию являлся весьма известным и даже главенствующим методом достижения единства архитектуры и скульптуры, архитектуры и живописи, распространенным в 1930—1950-х годах. Это было одно из наследий классики, которое особенно охотно развивали в послекон-структивистской архитектуре 1930-х годов, причем во многом благодаря творчеству именно Б. М. Иофана. Наиболее ярко это сказалось в оформлении станций московского метрополитена предвоенной и военной постройки, особенно таких, как «Комсомольская», «Маяковская», «Площадь Революции» и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: