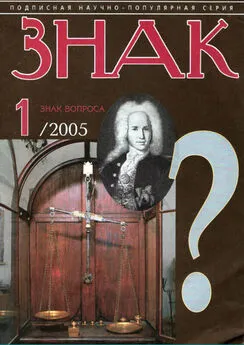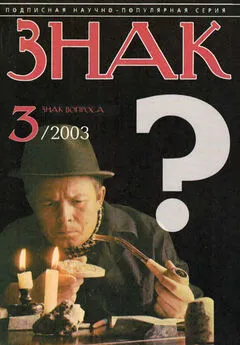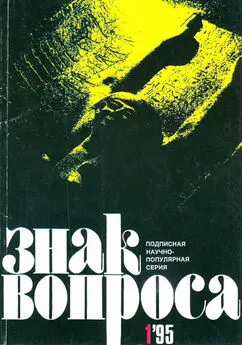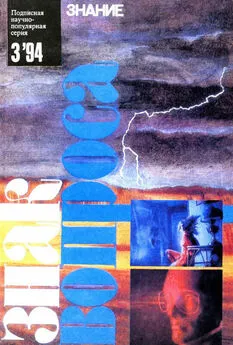Николай Воронов - Знак вопроса, 2005 № 03
- Название:Знак вопроса, 2005 № 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Воронов - Знак вопроса, 2005 № 03 краткое содержание
Для массового читателя. * * *
empty-line
7 cite
© znak.traumlibrary.net 0
/i/53/663653/i_001.png
Знак вопроса, 2005 № 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сталин пристально следил за литературным процессом в стране. Поскольку Шолохов отметал заимствования, вождь посоветовал ему для защиты собственного творческого авторитета написать роман на материале современной деревни.
Первая и вторая книги «Тихого Дона» вышли в 1928 году, первая книга «Поднятой целины» увидела свет через четыре года. Талант, обнаруженный Михаилом Шолоховым в вынужденном произведении, не уронил величья и весьма доказательно сработал. То, что прозаик, он же и поэт — в гоголевском понимании, был вынужден двигаться по следам многосложных, исхитренно-драматических и трагических, не осознанных обществом событий, заставляло его соскальзывать к натурному письму в построении вещи, в подаче героев и стиле, ослабило ее эстетическую целостность (очерковость, длинноты), но укрепило могучим образом читательскую тягу к нему. Нет сомнения, он спешил, чтобы продолжать эпопею о взорванной издревле сложившейся жизни на его родине, мало похожей на ту, которая отворилась всеохватным сокрушающим сдвигом. Было одно бытие; насильственно, в стихийной слепоте, среди океана крови возникало другое. Задача была титаническая: почти не было романов, кроме романа Максима Горького «Клим Самгин», о сломе одной исторически сложившейся эпохи ради пришествия новой, одухотворенной мечтой о грядущем общенародном счастье.
Высокая художественность «Поднятой целины», широта ее успеха, обусловленная проявлением громадного комедийного дарования, пожалуй, уровня Гоголя и Чехова, заглушило выдвигаемое против Шолохова обвинение.
К началу моего обучения в Литературном институте, 1948 год, возникал новый накат на Михаила Шолохова, однако мне несложно было устоять под ударами этих волн, подталкивающих психологию к легковерности, завистничеству и презрению знаменито у народа писателя, будто бы имевшему открытый счет в государственном банке: бери денег, сколько заблагорассудится, покупай что угодно.
В эту же самую пору в Москве вживлялась огулом среди литераторов беззастенчивая клевета на Максима Горького, всемирность которого была выверенной, капитальней и остойчивей, чем шолоховская, каковую, разумеется, необходимо было под замуровать, чтобы она не достигла всемирности Тургенева, Толстого, Достоевского… Как-то на перерыве между лекциями подошел ко мне сокурсник и спросил:
— Горького читал?
— Читал.
— Ты ведь из рабочих. Роман «Мать» боготворишь?
— Отношусь сретне, как говорят башкиры.
— Похвально.
Сокурсник пописывал пьески, с ходу принялся хулить драматургию Горького: и однозначна она, и не сценична, и заумна, и выспренна, ходули вместо образности. В столице я сделал огорчительное открытие не только в студенческой, но и в профессиональной литературной среде: злобные нападки на произведения больших писателей исходят, как правило, от сочинителей скудной одаренности, да к тому же ничтожной начитанности. Я возмутился и прибегнул к безотказному учительскому спросу. Ты-де критикуешь, не зная. Понятно, он изобразил своим красивым лицом оскорбленность энциклопедиста. Тут я ему в самоуверенную башку всаживаю гвоздевой вопрос: «Васса Железнова», она про что?» Верть-круть, ан опаскудился. И «Дачников» он не знал, и «Детей солнца», и «Егора Булычёва и других», даже «На дне» плохо знал, хотя и проходил в школе. Так как я прищучил его, но он из породы людей, которые и разбитые рвутся к непобедимости, и говорит: «Кого ты защищаешь? Графомана. Горький — графоман». И ссылается на прославленного писателя, претендующего на универсальность, на Корнея Чуковского: он и литературовед, и критик, и прозаик, и лингвист, и переводчик. Но отличился в основном как детский писатель, благодаря хватким заимствованиям у иностранных поэтов, о которых не подозревало большинство читателей и писателей из-за вакуума, образовавшегося в мире полиглотов после Октября, гражданской войны, изгнания напором и уловками Льва Троцкого ученой и литературной элиты. Позже мне довелось прослушать курс, годичной, Чуковского, посвященный поэту Николаю Некрасову, общаться с ним, слушать его неиссякаемые анализы, даваемые главным русским прозаикам, и всем из них, включая классиков, он давал отлуп в творческой и человеческой истинности. Верно, Михаила Шолохова он не задевал, вполне вероятно, страшился, что изничтожительные высказывания дойдут до Сталина, чтившего певца Дона, а одобрительных слов не находил в запасниках образованной недоброжелательством души.
Девяностолетию Михаила Шолохова были посвящены чтения в институте Мировой литературы имени А. М. Горького. Председательствовал на чтениях исследователь «Тихого Дона» критик Виктор Петелин. Среди иностранных гостей выделялся крупный знаток литературного наследия Шолохова норвежский профессор Гейер Кьетсо. Для Нобелевского комитета он провел анализ прозы Шолохова с применением компьютерных исследований. Ответ сложился цельный: у всех произведений, подвергнутых анализу, один-единственный автор.
Истина, достигнутая Гейером Кьетсо, доказательно выявляла себя, когда он докладывал участникам чтений о проведенных им структурных исследованиях. Вопросы, которые ему задавали, реплики из зала навели профессора на прискорбное впечатление: большая часть аудитории враждебна его объективному выводу. Он ждал торжества со стороны соотечественников нобелевского лауреата, а напарывался на предубеждение и ненавистничество.
Гейер Кьетсо не выдержал и с гневом сказал об этом. Усовестил ли он кого-то из зоологических злыдней не только русского гения, но и планетарного? Не станем наивничать. Нашелся нелюдь, кто прислал к восьмидесятилетию Льва Толстого, сверхгения человечества, веревочную петлю. Заурядность издревле насыщается и крепнет палаческим скудоумием.
Пора усвоить лжеречивцам, что молодость для русского писателя — заоблачный взлет дарования. А. Пушкин, «Вольность. Ода», «К Чаадаеву», «Деревня», 18–20 лет; 15 лет, М. Лермонтов, «Герой нашего времени», 25; Н. Гоголь, книга повестей «Вечера на хуторе близ Дикань-ки», 22–23; А. Бестужев-Марлинский «Взгляд на старую и новую словесность в России»; «Роман и Ольга», «Замок Вен-ден», 26; Н. Карамзин, повесть «Бедная Лиза», 26; Ершов, сказка в стихах «Конёк-Горбунок», 19; Ф. Достоевский, роман «Бедные люди», 25; А. Куприн, повести «Молох», «Очеся», 26–28; А. Платонов, повести «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек», 28–29; Павел Васильев, поэмы «Повесть о гибели казачьего войска», 18–22, расстрелян в 27 лет; Б. Пастернак, сборник стихов «Близнец в тучах», 24; Яшин, книга стихов «Северянка», 25; А. Твардовский, поэма «Страна Муравия», 26.
И другой сногсшибательный аргумент рвущихся отобрать «Тихий Дон» у Шолохова: он-де малограмотен, окончил всего четыре класса, и потому не мог знать общероссийских событий истории, которые использованы в романе. Какое худосочное склонение к школьной грамотности, словно он не был современником этих событий, не встречался с теми, кто в них участвовал, не отличался начитанностью. Познание, доступное великанам, океанично: как океаны вбирают воды рек, так великаны всепоглотительно вбирают свойства и подробности истории и действительности. Гений вулканичен. Его материалом и подспорьями являются извлечения из огненных недр личности, народов, природы. В анкетных данных об образовании гении не нуждаются. У нас, между прочим, и к неудовольствию априорных неприятелей Шолохова, есть другой нобелевский лауреат, тоже четырехклассиик и опять же академик: Иван Бунин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: