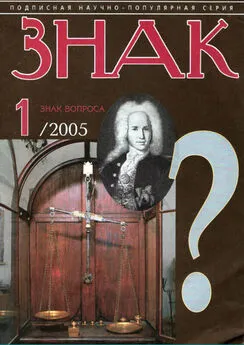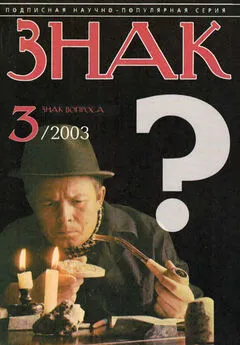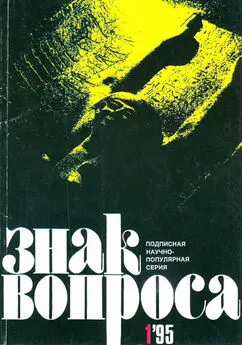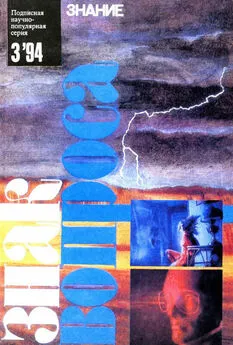Александр Афанасьев - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02
- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- Город:МоскваЗнание
- ISBN:5-07-002777-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Афанасьев - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02 краткое содержание
5 cite
© znak.traumlibrary.net 0
/i/59/663459/i_001.png
ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Искусствоведение не обошло своим вниманием иконописную бороду. Ей посвящались отдельные работы, ее провозглашали наши искусствоведы едва ли не первым национальным элементом русской иконописи: «На иконах являются изображения русских людей, св. Антония и Феодосия Печерских, с русскими типичными бородами. Да, св. Алимпий — русский художник! Следовательно, еще в XII веке народилось в России национальное искусство». Однако, как бы высоко не оценивалась роль бороды, о непосредственном ее опознавательном значении говорилось редко и вскользь. Поэтому сейчас есть все основания развить тему, подробнее исследовать русскую иконописную бороду именно с этой стороны, внимательней присмотреться к ее индексному назначению.
История религиозного подхода к бороде теряется во мгле веков. И, вероятно, первым из поводов возвышенного отношения к ней был непрерывный рост. Растущая на всем протяжении человеческой жизни и даже некоторое время после смерти ее владельца, она внушала мысль о себе как о неком аккумуляторе физических и духовных сил человека. Мысль, которая вполне разделялась русским средневековьем. Например, в «Житие святого Симеона» рассказывалось: «Едва же возложены бяху честныя святого Симеона на уготованное носило, Патриарх хотя взяти на благословение мало власов от брады его святыя, простре руку и абие усше рука его».
Представляясь аккумулятором природных сил человека, борода в то же время как специфическое мужское украшение казалась знаком мужского первородства, царственности, силы и общего превосходства над женщиной. В грамоте, приписываемой патриарху Андриану, говорится, что Бог «мужу и жене сотвори, положив разнство видное между ними, яко знамение некое: мужу убо благолепие, яко начальнику — браду израсти, жене же яко не совершенной, но подначальной, онаго благолепия не даде».
Кроме того, разделяя человечество по половому признаку, борода, вырастающая на определенной стадии полового созревания мужчин, и саму мужскую половину человечества делила на две половины, но уже по возрастному признаку, на мужчину и юношу, что давало в старину носителям бороды дополнительный повод для гордыни, так как она, свидетельствуя о наступлении половой зрелости, вместе с тем отчасти указывала и на наступление зрелости иного порядка — духовной и интеллектуальной (античные философы носили бороду как профессиональный знак), и длина бороды часто приравнивалась к долготе ума. Платон писал: «Разум появляется обычно с первым пушком». Аммиан говорил о том же не без иронии:
Думаешь ты — борода придает тебе
мудрость и разум?
И из-за этого ты холишь, любезный, ее
Пугало мух и метлу. Да обрей ты ее
поскорее!
Ведь порождает она вовсе не мудрость,
а вшей.
С той же иронией отзывался о данном предрассудке один русский автор: «Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власам долгость, юже являху людям и красахуся тою, яко мудрии».
Указанные мотивы почтительного отношения древнего человека к бороде — общее достояние дохристианской эпохи. Что же касается христианства, то оно, не упразднив ничего из накопленного прежде, прибавило к брадопочтению свои специфические черты. Раннее христианство, с его нелюбовью ко всему искусственному, увидело в бороде элемент природности, натуральности облика и естественную ограду от содомских поползновений (Климент Александрийский). А средневековье еще более усилило религиозное отношение к бороде, включив ее в общую теорию христианского аскетизма.
Общеизвестно, каким вниманием и уважением пользовалась борода на Руси. Пеня за отнятие бороды, по «Русской правде», вчетверо превышала пеню за увечье. Подобное отношение отчасти обусловливалось вышеперечисленными мотивами. Но, кроме них, на Руси существовал еще один, чисто русский, неведомый другим народам повод для возвышенного брадопочитания, что с особой силой проявилось во время брадоборческой кампании Петра Великого, когда внезапно обнаружился новый, неведомый дотоле духовный смысл ношения бороды. В разгар кампании к ростовскому владыке подошла группа прихожан и в следующих выражениях изложила свою позицию по этому вопросу: «Мнози, иже по указу Государеву обриша брады своя, сумняться о спасении своем, акиба истеряли образ и подобие Божие, и не суть уже по образу Божию и по подобию, обритых ради брад». В ответ Димитрий Ростовский вынужден был объяснить, что образ и подобие Божие состоят не в каких-либо видимых элементах, а в невидимой душе. Не правда ли, знаменательно, что, не что иное, как волосяной покров своего лица, в старину русский рассматривал в качестве зримого знака сопричастности Божеству, важного элемента своего облика, подобного облику Небесного Отца. Причем в воспоминаниях тех лет указывался и источник этого заблуждения. Им оказалась иконопись. Современник Петра Великого и Димитрия Ростовского английский капитан Перри писал, что священники поддерживают брадопочитательную традицию в народе, «приводя в пример то, что благочестивые мужи в древности носили бороду, согласно тому, как на ИКОНАХ ИЗОБРАЖАЮТ СВЯТЫХ».
Иконописная борода, сделавшая бесценным и возвышенным ее реальный аналог, — прекрасная иллюстрация мысли Оскара Уайльда о том, что «жизнь подражает искусству гораздо больше, нежели искусство — жизни». Но сама по себе иконописная борода, просто борода, безотносительно к ее опознавательной, индексной функции, скорее всего не могла быть сильным аргументом в пользу ношения бороды (икона содержала множество других элементов, которым могла бы подражать, но не подражала жизнь). Борода не могла быть им, если бы была только случайным, малозначительным элементом композиции иконы. Но, будучи основным средством опознания Божества и сопричастных ему лиц, будучи индексом, благодаря которому узнавались на иконе святые, иконописная борода вполне могла стать тем весомым аргументом в брадоборческой эпопее, каким она предстает перед нами в воспоминаниях капитана Перри.
Что же собой представляет иконописная борода? Каковы ее типы и подразделения? Основных типов бороды существовало не так много: «Косыгина» (короткая, повторяющая овал лица), «Спасова» (короткая, заостренная, раздвоенная на конце), «Николина» (короткая, круглая! «аки Григорий Богослов» (до груди, «густа и широка»), «Власиева» (клином, «долга по персям»), «аки Василий Великий» (брада до персей, подоле, узкая), «аки Иоанникий Великий» («брада велика и широка на конце в двое раскинулась»), «аки Филогоний» («на оба плеча раскинулась»), «аки Захарий Пророк» («до пояса длина»), «аки Макарий Римский» (клином, «до полуколена»), «аки Макарий Египетский» («по колени долга, а от колен два косма повелись до земли») и некоторые другие. В свою очередь, каждый из этих типов имел массу модификаций, формировавшихся благодаря изменениям в форме, цвете или фактуре иконописной бороды. Так, форма изменялась пятью способами, ее делали покороче, пошире, подоле, поуже или раздваивали на конце. Варьировался цвет бороды: рус, светлорус, надсед, с проседью, сед. Варьировалась фактура: проста, «терхава» (?), кудреватая с космачками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: