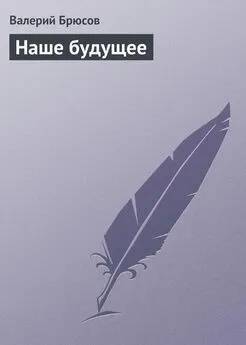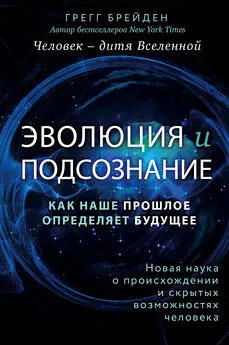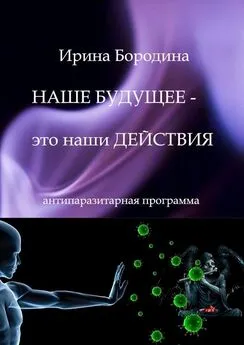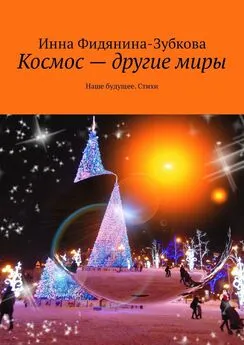Мерлин Шелдрейк - Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее
- Название:Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-122572-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мерлин Шелдрейк - Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее краткое содержание
Талантливый молодой биолог Мерлин Шелдрейк переворачивает мир с ног на голову: он приглашает читателя взглянуть на него с позиции дрожжей, псилоцибиновых грибов, грибов-паразитов и паутины мицелия, которая простирается на многие километры под поверхностью земли (что делает грибы самыми большими живыми организмами на планете). Открывающаяся грибная сущность заставляет пересмотреть наши взгляды на индивидуальность и разум, ведь грибы, как выясняется, – повелители метаболизма, создатели почв и ключевые игроки во множестве естественных процессов. Они способны изменять наше сознание, врачевать тела и даже обратить нависшую над нами экологическую катастрофу. Эти организмы переворачивают наше понимание самой жизни на Земле.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
в грибной компьютер: Adamatzky (2018a, 2018b).
«сетевым» организмам: примеры вычислительной деятельности сети можно найти у van Delft et al. (2018) и Adamatzky (2016).
к которым они чувствительны: Adamatzky (2018a, 2018b).
«если это окажется правильным»: я спросил у Олссона, почему никто не продолжил его исследований с 1990-х годов. «Когда я сделал доклад на конференции, моя работа действительно заинтересовала очень-очень многих, – ответил он. – Но они считали ее странной». Все исследователи, которых о его работе спрашивал я, были увлечены его идеями и хотели узнать о его работе больше. С момента доклада его работу цитировали уже много раз. Но добиться финансирования на продолжение своей работы в этой области Олссон так и не смог. Считалось, что его работа, скорее всего, ни к чему не приведет – используя официальную формулировку, она была «слишком рискованной».
задолго до того, как мозг стал таким, каким мы его знаем: по поводу «архаичного мифа» читайте Pollan (2013); о древних клеточных процессах, лежащих в основе мозговой деятельности, читайте работу Manicka and Levin (2019). «Гипотеза движения» утверждает, что мозг развился как причина и следствие того, что у животных появилась необходимость перемещаться с места на место. Организмы, остающиеся на одном месте, не сталкиваются с таким типом проблем, и, соответственно, у них развились системы другого рода для разрешения сложностей, которые встают перед ними (Solé et al. [2019]).
все, что нужно: высказывание Darwin (1871), приводимое Trewavas (2014), ch. 2. О «минимальном познании» см.: Calvo Garzón and Keijzer (2011); о «биологически воплощенном познании» см.: Keijzer (2017); о сознании растений см.: Trewavas (2016); о познании «базальных ядер» и степеней познания читайте Manicka and Levin (2019); обсуждение микробиологического интеллекта можно найти у Westerhoff et al. (2014); информация о разных типах «мозга» приводится в работе Solé et al. (2019).
гибко перестраивающихся нейронов: о «сетевой неврологии» см.: Basset and Sporns (2017) и Barbey (2018). Научные достижения, позволяющие выращивать культуры тканей головного мозга в лабораторных условиях – известные как «органоиды» мозга, – еще больше усложняют наше восприятие понятия «интеллект». Философские и этические вопросы, поднятые этими технологиями – и отсутствие четких ответов, – являются напоминанием о том, что в определении границ нашего собственного биологического Я ясность тоже отсутствует. В 2018 году несколько ведущих неврологов и биоэтиков опубликовали статью в журнале Nature , в которой они рассматривали некоторые из этих вопросов (Farahany et al. [2018]). В грядущие десятилетия достижения в выращивании тканей головного мозга позволят создать искусственный «минимозг», который будет более точно имитировать работу человеческого головного мозга. Авторы пишут, что «по мере того, как суррогатный мозг будет становиться больше и сложнее, возможность того, что у него появится способность ощущать и разумность, сходные с человеческими, станет все ближе. Среди них, возможно, будут и такие, как способность испытывать удовольствие, боль или отчаяние; способность хранить и восстанавливать воспоминания; или, вероятно, способность ощущать и воспринимать себя как индивидуальность». Некоторых ученых беспокоит мысль о том, что эти органоиды мозга когда-нибудь могут оказаться умнее нас (Thierry [2019]).
тянуться и хватать: об эксперименте с плоскими червями см.: Shomrat and Levin (2013); о нервной системе осьминогов см.: Hague et al. (2013) и Godfrey-Smith (2017), гл. 3.
катастрофические глобальные изменения: Bengtson et al. (2017) и Donoghue and Antcliffe (2010). С нарочитой осторожностью Bengston и его коллеги указывают на то, что их образцы, возможно, и не являются в действительности грибами, но могут относиться к семейству древних организмов, всеми своими явными проявлениями напоминающих современные грибы. Можно понять их нерешительность. Авторы заявляют, что если бы эти окаменелости действительно оказались грибами, они бы полностью перевернули наше нынешнее представление о том, где и как появились первые грибы. Грибы плохо сохраняются и превращаются в ископаемые, и до сих пор идут споры о том, когда именно грибы впервые ответвились от древа жизни. Методы, основанные на анализе ДНК – использующие так называемые «молекулярные часы», – позволяют предположить, что впервые грибы отклонились в своем развитии от древа жизни около миллиарда лет назад. В 2019 году исследователи сообщили об обнаружении окаменелого мицелия, которому было около миллиарда лет, в арктическом сланце (Loron et al. [2019] и Ledford [2019]). Более ранним грибным окаменелостям, согласно анализу, порядка 450 миллионов лет (Taylor et al. [2007]). Самым ранним окаменелостям грибов с гимениальными пластинами примерно 120 миллионов лет (Heads et al.) [2017]).
бесконечно перестраивают себя: о Барбаре МакКлинток (Barbara McClintock) см.: Keller (1984).
понять: там же.
одного из старейших лабиринтов жизни: Александр Гумбольдт (Humboldt) (1849), т. 1, стр. 20.
Глава 3. БЛИЗОСТЬ НЕЗНАКОМЦЕВ
говоря «мы»: Rich (1994).
«получим назад наши образцы »: BIOMEX – один из нескольких астробиологических проектов. О BIOMEX см.: de Vera et al. (2019); О платформе EXPOSE см.: Rabbow et al. (2009).
«ограниченности земных форм жизни»: цитату «границ возможностей и ограниченности земных форм жизни» можно найти у Sancho et al. (2008); обзор организмов, отправленных в космос, включая лишайники, см.: Cottin et al. (2017); о лишайниках как о модельных организмах для астробиологических исследований читайте в работе Meeβen et al. (2017) и de la Torre Noetzel et al. (2018).
нельзя понять, изолировав их от всего остального: Wulf (2015), ch. 22.
по отдельности никто из них не выжил бы: о Швенденере и гипотезе двойственности (о «полезном и дающем силы паразитизме») см.: Sapp (1994), ch. 1.
«не верим в теорию Швенденера» : Sapp (1994), ch. 1; о «сенсационном романе» см.: Ainsworth (1976), ch. 4. Некоторые из биографов Беатрис Поттер предполагали, что она была сторонницей гипотезы двойственности Швенденера, но со временем, вероятно, изменила свое к ней отношение. Тем не менее в 1897 году в письме к Чарльзу Макинтошу, сельскому почтальону и натуралисту-любителю, она четко сформулировала свою позицию в этом вопросе: «Видите ли, мы не верим в теорию Швенденера, а в более старых книгах говорится, что лишайники постепенно перерождаются в перелеску благородную через листовидные разновидности. Мне бы очень хотелось вырастить спору одного из этих больших плоских лишайников, а также спору настоящей перелески, чтобы сравнить два вида прорастания. Названия неважны. Я могу их засушить. Если бы Вам удалось добыть для меня еще спор лишайника и перелески, когда изменится погода, я была бы Вам очень обязана» (Kroken [2007]).
совершенно неожиданное: они сходились: дерево – один из основополагающих образов в современных теориях эволюции и, как известно, единственная иллюстрация в работе Дарвина «О происхождении видов». Дарвин ни в коем случае не был первым, кто использовал этот образ. Веками ветвящаяся форма дерева придавала упорядоченности и наглядности человеческой мысли в различных областях – от теологии до математики. Лучше всего, вероятно, всем знакомы генеалогические древа, уходящие корнями в Ветхий Завет (Древо Иессеево).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: