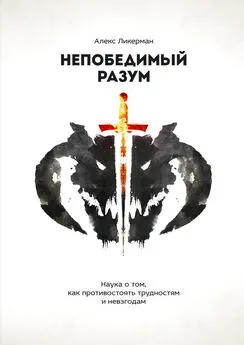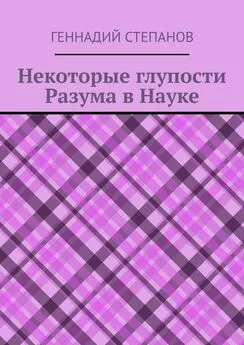Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса
- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785001395362
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание
Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.
Особенности
Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.
Для кого
Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.
Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не дело науки судить о своей роли в решении вопросов морали, политики или искусства. Это все философские проблемы, а наука – не философия.
Но на самом деле логическую ошибку совершает тут сам Уисельтир, путая утверждения с академическими дисциплинами. Несомненно, эмпирическое утверждение не то же самое, что логическое, причем и те и другие следует отличать от нормативных. Но это не значит, что ученым под подпиской о неразглашении запрещено обсуждать абстрактные и моральные вопросы, так же как и философы не обязаны хранить молчание насчет материального мира.
Наука – не список экспериментально установленных фактов. Ученые погружены в эфирную среду информации , включающей математические истины, логику научных теорий и ценности, которые руководят их деятельностью. Да и философия никогда не запирала себя в призрачном мире чистых идей, который парит вовне нашей вселенной. Философы Просвещения, к примеру, вплетали в свои абстрактные рассуждения гипотезы о восприятии, мышлении, эмоциях и социальности. (Юм, скажем, пришел к своему пониманию природы причинности благодаря догадке о психологии причинности, а Кант, кроме всего прочего, был опередившим свое время когнитивным психологом [1167] Юм как когнитивный психолог: см. прим. к Pinker 2007a, chap. 4; Кант как когнитивный психолог: Kitcher 1990.
.) Сегодня большинство философов (как минимум в аналитической, она же англо-американская традиция) придерживаются натурализма , то есть позиции, согласно которой «реальность исчерпывается природой и не содержит ничего “сверхъестественного”, а научный метод надлежит использовать для исследования всех сторон реальности, в том числе и “человеческого духа”» [1168] Определение взято из Стэнфордской философской энциклопедии. В Papineau 2015 добавлено: «Подавляющее большинство современных философов принимают натурализм в этом понимании». При анкетировании 931 преподавателя философии (в основном аналитической/англо-американской школы) 50 % поддержали «натурализм», 26 % – «не-натурализм» и 24 % выбрали «другое», в том числе варианты «вопрос поставлен недостаточно четко» (10 %), «недостаточно знаком с вопросом» (7 %) и «не знаю/не определился» (3 %); Bourget & Chalmers 2014.
. Наука в современном представлении составляет единое целое с философией и с самим разумом.
Что же тогда отличает науку от других упражнений ума? Это совершенно точно не «научный метод», термин, которому учат школьников, но который вы никогда не услышите от ученого. Ученые используют какие угодно методы, помогающие им понять мир: нудное составление таблиц, безрассудные эксперименты, полет научной фантазии, элегантное математическое моделирование, сделанные наспех компьютерные симуляции, подробное словесное описание [1169] Не «научный метод»: Popper 1983.
. Все эти методы поставлены на службу двум идеалам, и именно эти идеалы защитники науки хотят распространить на остальные сферы интеллектуальной жизни.
Первый – это представление о постижимости мира. Воспринимаемые нами явления можно объяснить с помощью принципов, которые глубже самих этих явлений. Вот почему ученые смеются над «теорией бронтозавра», сформулированной экспертом по динозаврам из «Летающего цирка Монти Пайтона»: «Все бронтозавры с одного конца тонкие, гораздо толще в середине и снова тонкие с противоположного конца». «Теория» эта просто описывает существующее положение вещей, а не объясняет, почему оно именно такое. Принципы, дающие объяснение, в свою очередь могут быть объяснены принципами следующего порядка, и так далее. (Как сформулировал Дэвид Дойч, «мы всегда в начале бесконечности».) Постигая окружающий мир, мы лишь изредка можем довольствоваться объяснениями вроде «Ну, вот как-то так», или «Чудеса какие-то», или «Потому, что я так сказал». Приверженность концепции постижимости – не вопрос чистой веры, она неуклонно подтверждается по мере того, как все больше явлений становятся объяснимыми в терминах науки. Биологические процессы, к примеру, раньше приписывались мистическому «жизненному порыву», élan vital; сегодня мы знаем, что они опираются на химические и физические взаимодействия между сложными молекулами.
Обличители, пугающие публику сциентизмом, часто путают постижимость с грехом под названием «редукционизм» – анализом сложных систем посредством разложения их на более простые части или, если верить таким обвинениям, сведением сложных систем исключительно к их более простым частям. В действительности объяснить сложное явление на более глубоком уровне – не значит сбросить со счета его многогранность. Закономерности, выявленные на одном из уровней анализа, не сводятся к совокупности компонентов более низкого уровня. Хотя Первая мировая война и представляла собой движение материи, никто не возьмется объяснять ее языком физики, химии и биологии, отказавшись от более вразумительного в данном случае анализа взглядов и целей лидеров европейских держав 1914 года. В то же время любопытный исследователь может с полным правом спросить, почему человеческий разум склонен к таким взглядам и устремлениям, как, например, трайбализм, чрезмерная самоуверенность, взаимный страх и культура чести, которые составили в тот исторический момент столь гремучую смесь.
Второй идеал науки состоит в том, что мы должны позволять миру сообщать нам, верны ли наши представления о нем. Традиционные основания убеждений – вера, откровение, догма, авторитет, харизма, народная мудрость, герменевтический анализ текста, сияние субъективной уверенности – это генераторы ошибок, и их нельзя считать источниками знаний. Вместо этого наше мнение по поводу эмпирических утверждений должно меняться в зависимости от их соответствия реальности. Когда ученых просят объяснить, как они это делают, они обычно обращаются к предложенной Карлом Поппером модели предположений и опровержений, согласно которой научную теорию можно эмпирически опровергнуть, но подтвердить окончательно невозможно. В реальности, однако, наука не очень похожа на стрельбу по тарелочкам, когда вместо мишеней в небо запускают гипотезы, чтобы разбить их вдребезги. Процесс ближе байесовскому мышлению (подходу, которого придерживаются суперпрогнозисты из предыдущей главы). Новой теории присваивают некий первоначальный уровень доверия в зависимости от того, насколько она сочетается со всем, что нам уже известно. Затем этот уровень доверия повышается или понижается в соответствии с вероятностью наступления реально наблюдаемых событий в случае, если теория верна или неверна [1170] Опровержимость и байесовский подход: Howson & Urbach 1989/2006; Popper 1983
. Неважно, кто был ближе к истине, Поппер или Байес, но уровень уверенности ученого в истинности теории зависит от того, насколько она согласуется с эмпирическими данными. Любое движение, которое называет себя «научным», но не поощряет проверку собственных утверждений (в особенности убивая несогласных или бросая их за решетку), – это не научное движение.
Интервал:
Закладка: