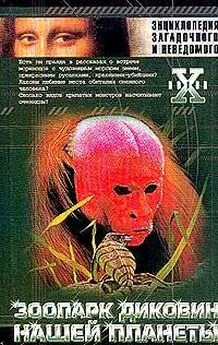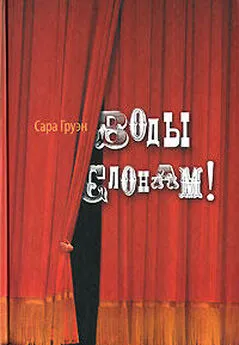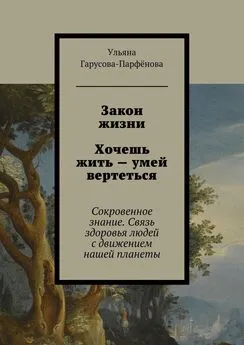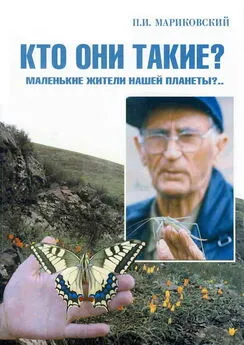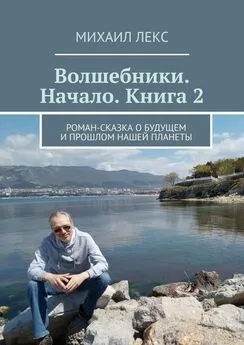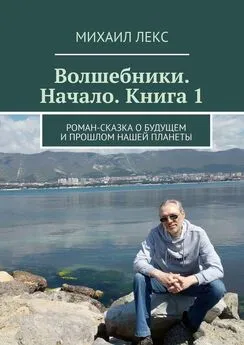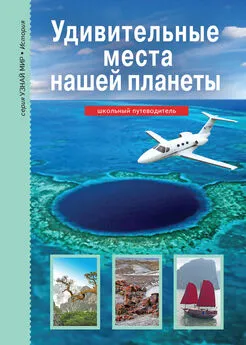Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785001394938
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание
Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.
Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.
Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каким бы впечатляющим ни был этот результат, возможно, главным достижением проекта WOCE стало то, что он наглядно продемонстрировал всю глубину неведения океанографов и показал, какими должны быть исследовательские программы, чтобы шаг за шагом накапливать необходимые знания. Размышляя о будущем своей научной дисциплины в начале 1980-х гг., когда шло планирование WOCE, Карл Вунш и Уолтер Мунк написали: «Теперь мы можем оценить масштаб задачи, стоящей перед океанографами, которые хотят понять, как "функционирует" океан, и надеются однажды научиться прогнозировать его изменения. Океан представляет собой глобальную жидкую среду, мало чем отличающуюся от атмосферы, и эту глобальную систему необходимо наблюдать точно так же – во всех значимых пространственных и временны́х масштабах» [316] Walter Munk and Carl Wunsch, «Observing the Ocean in the 1990s,» Philosophical Transactions of the Royal Society A 307 (1982): 440.
. Задуманный как «моментальный снимок» океана, проект WOCE помог осознать необходимость постоянной программы глобального наблюдения. Это не было возвращением к прежней практике океанографической съемки, но стало своего рода возвращением к дисциплине регулярного наблюдения – с одним отличием: на фоне растущей озабоченности по поводу изменения климата наблюдение уступило место мониторингу. Океан уже не мог быть просто местом поиска знаний (если он когда-либо был таковым) – он стал сигнализировать об изменении глобального климата, и эти сигналы необходимо было внимательно отслеживать.
Стоммел надеялся, что проект WOCE соединит в себе лучшее из обоих миров, традиционное и новое, всеобъемлющее и конкретное, предложив идеальный компромисс между географически ориентированными океанографическими съемками и процессно-ориентированными экспериментами, предназначенными для проверки ключевых физических гипотез. «Возможно, – писал он в эмоциональном эссе в 1989 г., – WOCE в действительности вовсе не является большой наукой – это просто совокупность небольших отдельных проектов, которые люди хотели бы реализовать в любом случае» [317] Stommel, «Why We Are Oceanographers,» 52.
. Это звучало как попытка человека уверить себя в том, во что ему очень хотелось бы верить. Но куда более убедительно Стоммел звучал, когда выражал надежду на то, что вскоре придет новое поколение молодых ученых, которое бросит вызов устоявшимся представлениям его поколения, выдвинет собственные дерзкие идеи и проведет смелые эксперименты, чтобы открыть совершенно новое понимание океана. Как бы ни изменилась океанографическая наука в будущем, какие бы формы организации ни потребовались, чтобы получить ответы на поставленные океаном вопросы, Стоммел был убежден, что для любого человека, стремящегося заниматься наукой, именно личный поиск – «личный поединок с каким-либо явлением во Вселенной» – является главной целью и главной наградой. «Человек один на один сталкивается с неизвестным и пытается найти в нем некий смысл. Собирая отдельные кусочки знаний, сортируя их, он складывает из них новое понимание». В океане – Стоммел знал это лучше, чем кто-либо другой, – таким фрагментам знаний не было числа, а новое понимание было и вовсе безгранично [318] Ibid., 54.
.
Учитывая такое отношение к науке как к личному опыту, нельзя без содрогания слушать его интервью, записанное в 1989 г., за три года до смерти, где он делится своими мыслями о науке и вере. Вместо того чтобы рассматривать науку как средство познания, способное дать ответы на вопросы, ранее казавшиеся немыслимыми, Стоммел описывает ее как ограниченный в возможностях инструмент. «Мне кажется, что наука, – говорит он, – на самом деле очень ограничена в том, что она может рассказать нам о мире, как она может удовлетворить наши потребности, дать знание о том, что мы отчаянно хотим знать». Стоммел рассказал о разговоре со своим другом и наставником Рэем Монтгомери (человеком, который в далеком 1947 г. предложил ему подумать над тем, почему морские течения сосредоточиваются на западе), состоявшемся незадолго до смерти последнего. Тогда Стоммел спросил Монтгомери, что тот думает о смысле жизни и чуде жизни и что, на его взгляд, это означает для человека. Монтгомери ответил, что никогда не думал о таких вещах. Он не предложил ни Стоммелу, ни самому себе никакого утешения перед лицом смерти и остался тверд в своем нежелании искать успокоения в вере. Этот разговор оставил у Стоммела тягостное и тревожное чувство.
Хотя сам Стоммел никогда не отвергал религиозные ценности, он четко отделял их от своей научной деятельности. Посвятив всю жизнь борьбе с тайнами мироздания, проявляющими себя в океане, и находя в этом огромную радость, в конце жизни ученый пришел к убеждению, что несправедливо приписывать науке то чудесное, что традиционно связывается с религией. «Да, у нас есть идеи, которые мы почитаем, – сказал Стоммел, рассуждая о том, что люди иногда рассматривают науку как своего рода религию. – Мы совершаем паломничество в Вестминстерское аббатство и благоговеем перед могилами Ньютона и Кельвина. Я считаю библиотеку здесь [в Вудс-Хоуле] чем-то вроде храма. Но если подумать: какое отношение эти слова – красота, благоговение, храм – имеют к науке, какой мы ее знаем? У меня нет ответа на этот вопрос, – продолжил он и, сделав паузу, добавил: – И меня это глубоко беспокоит».
Похоже, к концу жизни Стоммел лишился надежды на то, что наука может хотя бы в какой-то мере подарить ему то ощущение чуда, которого он жаждал. В некотором смысле это перекликалось с идеей Тиндаля о том, что природа невольно, без всякого умысла, творит удивительные вещи – включая способность человека к восприятию чуда. Но если Тиндаль никогда не испытывал неудовлетворенности наукой, дарившей ему более глубокое понимание чуда природы, то в словах Стоммела прозвучало горькое разочарование ограниченностью науки, которое по своей силе намного превосходило его благоговение перед творениями природы.
Стоммел был согласен с Тиндалем в материалистическом взгляде на науку. Наука, объяснял он, «подобна инструкции к микроволновой печи». Она «ужасающе суха, мертва и холодна», лишена какой-либо моральной и эмоциональной ценности, которая придает смысл человеческой жизни. Но проблема не в науке, а в том, что люди возлагают на нее ошибочные ожидания. Наука гипнотизирует нас своими успехами, объяснял Стоммел, «и постепенно мы пропитываем ее нашими надеждами, желаниями и тревогами и начинаем говорить о красоте науки, нашей любви к ней, нашем благоговении перед ней, тогда как я не вижу в ней ничего, что могло бы вызывать такие чувства».
Ученый был убежден, что установление новых пределов того, чего можно надеяться достичь с помощью науки, – подобно тем пределам, которые сам он помог установить в понимании турбулентности, лежащей в основе глобальной океанической «механики», – поможет прояснить ее место в нашем эмоциональном ландшафте. Возможно, будет лучше, если со временем мы научимся ожидать от науки меньшего, а не большего, предполагал Стоммел. «Лично для меня наука была полезна тем, что помогала отвлечься от более фундаментальных вопросов. Она спасала меня от того, чтобы не быть раздавленным жаждой чуда и тоской. Это было чем-то вроде насвистывания в темноте» [319] Интервью с Генри Стоммелом и Биллом фон Арксом, 11 мая 1989 г. Архив Океанографического института в Вудс-Хоуле.
.
Интервал:
Закладка: