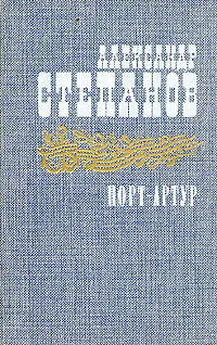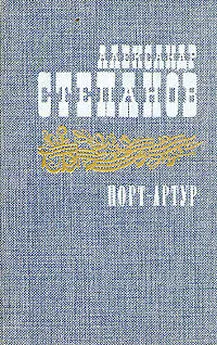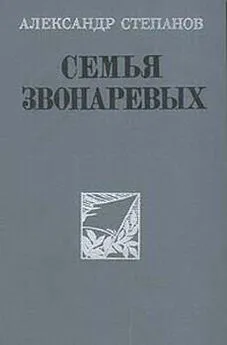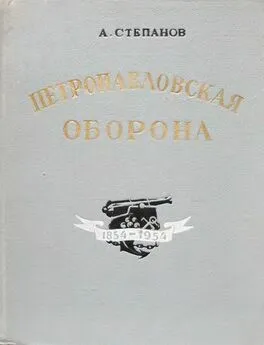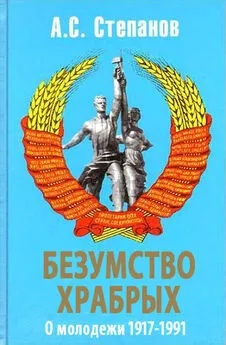Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Название:Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814789
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры краткое содержание
Очерки поэтики и риторики архитектуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но стена не только размежевывает. Она способна защищать. Стена – твердь. В стену Либескинда нет входа, который ослабил бы твердыню. Но, защищая, она испытывает ожесточенные удары врагов. Металлическая твердыня иссечена шрамами, в глубине которых видна стеклянная плоть, ибо эти взрезы суть световые проемы. Вечерами они излучают золотистый свет, контрастирующий с сумеречной синевой металлической кожи. Там, внутри – жизнь, неистребимая жизнь еврейского народа.
Внутреннее строение своей стены Либескинд определил коротко: «Между линий». Между линий – значит между прямой и изломанной линиями. Прямая линия как целое здесь только подразумевается: это пунктир, разорванный шестью пустотами, пронизывающими стену сверху донизу.
Уже несколько раз я назвал «пустотами» то, что правильнее называть «разрывами». Пустота не динамична, пустоты в архитектуре – просто промежутки между объемами, между телами. Либескинд же, насколько я понимаю, стремился заставить посетителя музея вообразить и пережить разрушения изначально цельной внутренней структуры стены, вызванные воздействием бесчеловечных сил, – тех же самых, что изувечили исходную прямизну стены и рассекли ее шрамами. Разрывы прямой оси не только создают непреодолимые препятствия целенаправленному движению посетителя от начала экспозиции к самой дальней ее точке. Поскольку вся экспозиция есть не что иное, как объективация памяти о Холокосте, эти разрывы, доступные посетителю только зрительно с мостов между экспозиционными площадками, являются метафорой опустошительных утрат в истории еврейского народа, метафорой слома линейного времени, навсегда разделенного на «до» и «после» Холокоста 765 765 Hansen-Glucklich J. Holocaust Memory Reframed: Museums and the Challenges of Representation. Rutgers University Press, 2014. P. 21.
.
Питер Айзенман интерпретирует разрывы и шрамы здания Еврейского музея как архитектурные приемы, используемые Либескиндом «для критики архитектурных постоянных, в частности осевой линейности, которые можно считать фундаментальными постоянными картезианского и классического пространства» 766 766 Айзенман П. Указ. соч. С. 241, 242.
. Но напрасно, на мой взгляд, он ссылается при этом на соображения Розалинд Краусс о работах Гордона Матта-Кларка (проделывавшего вырезы в перекрытиях и разрезавшего стены зданий), как если бы не существовало принципиальной разницы между «анархитектурными» (излюбленное слово самого Матта-Кларка) трудами неудачливого студента-архитектора, уродовавшего обреченные на снос, беззащитные здания в борьбе против архитектуры как искусства строить на века 767 767 Фостер Х., Краусс Р., Буа И. - А., Бухло Б. Х. Д., Джослит Д. Указ. соч. С. 552. Текст о Матта-Кларке написан Ивом-Аленом Буа.
, и следами насилия над архитектурной формой в Еврейском музее Либескинда. Нет необходимости обращаться к туманным идеям Краусс об «индексальности» деструктивной деятельности Матта-Кларка, чтобы понять, что у Либескинда нарушение «архитектурных постоянных» обретает, как пишет сам Айзенман, «символически осмысленную связь со своевольным, то есть „бессмысленным“, уничтожением людей» 768 768 Айзенман П. Указ. соч. С. 246.
.
Череда разрывов внутри здания Либескинда, тянущаяся параллельно боковому фасаду Судебной палаты, – единственная строго геометрическая связь между старой и новой частями Еврейского музея. Можно видеть в этом акцент на уничтоженном нацистами правосудии. Но Between the lines Либескинда можно понимать и как «Между строк», то есть как уклонение архитектора от прямого, непосредственного выражения смысла архитектурных форм: имеющий глаза да видит.
Войти в Еврейский музей – значит из здания Судебной палаты углубиться лестницей в подземелье. Вместо свойственных музеям помпезных лестничных маршей – узкий спуск. Вместо дневого света и солнечного тепла – безоконный сумрак и постоянный холод. Вместо гладкого светлого металла – голый шершавый бетон. Полное отсутствие прямоугольности. С разных сторон надвигаются углы, отделяющие одну от другой непонятно куда влекущие перспективы, освещаемые откуда-то сверху-сбоку. Угнетающее, дезориентирующее подземелье заставляет вчувствоваться в психическое состояние жертв Холокоста.
Оказаться на экспозиционных этажах (их три над уровнем земли, четвертый – технический) можно не иначе, как поднявшись длиннейшей Осью Непрерывности на третий этаж, чтобы потом спускаться на второй и первый. Узкий темный коридор этой оси манит ярким светом в далеком конце. На первых сорока метрах преодолеваем пандус, потолок давит все тяжелее. В двадцатиметровом утешительно-горизонтальном промежутке становится светлее, но начинается лестница, и, кажется, дальше уже не пройти не пригнув голову. И вдруг потолок взлетает на пятнадцать метров… На такую же высоту нам предстоит, выбиваясь из сил, взойти по лестнице длиною в шестьдесят метров, втиснутой между стерильно белыми стенами под грозящими обрушиться на голову бетонными балками, беспорядочно воткнутыми в стены. По замыслу Либескинда, этот узкий путь с ярким светом впереди символизирует единство истории евреев и истории Германии. Но у «ступеней непрерывности» нет ничего, что повышало жизненный тонус людей на бесчисленных ступенях зиккуратов, дворцов, парков.
С пандуса Оси Непрерывности ответвляются вправо два прямых коридора, несколько поодаль перекрещивающихся между собой, тем самым нас дезориентируя: Ось Изгнания и Ось Холокоста. Они ведут в Сад Изгнания и в Башню Холокоста. Войдя в Сад Изгнания, мы, запрокинув головы, увидим небо, превращенное архитектором в узкие полосы между рядами массивных пилонов, или же в кресты, если смотреть вверх с перекрестия проходов между пилонами. Небо недостижимо высоко – но все-таки над Садом Изгнания оно существует. Его нет за черной дверью Башни Холокоста – ужасающе пустого темного холодного сырого бетонного колодца с крохотной дыркой наверху, горящей дневным светом, как лампочка под потолком камеры смертника. Здесь прекращается движение, замирает жизнь.
Еврейский музей Либескинда и «город мертвых» Росси – две совершенно разных модальности трагической архитектуры, с силой воздействия которой не может сравниться никакая руина. Ибо руины либо подлежат сносу и восстановлению, либо демонстрируют гордое противостояние человеческих творений разрушительному действию природных и исторических сил, либо, наконец, услаждают наши элегические чувства и мысли. Так или иначе, в переживании руин трагическое вытесняется другими душевными состояниями – порывом к обновлению жизни, преклонением перед величием древних цивилизаций, эстетизацией (как у Георга Зиммеля 769 769 Зиммель Г. Руина // Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни. М.; СПб., 2014. С. 200–206.
) единства человеческого и природного начал. В некрополе же Сан-Катальдо и в Еврейском музее Берлина трагические переживания впервые в истории мировой архитектуры внушаются посетителям не благодаря разрушению и утрате архитектурных форм, а, напротив, путем создания в высшей степени определенных форм и их сочетаний, целенаправленно управляющих человеческой психикой.
Интервал:
Закладка: