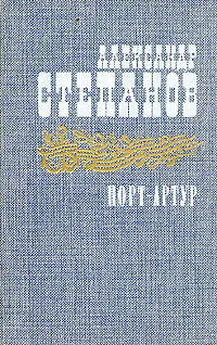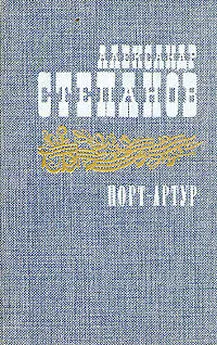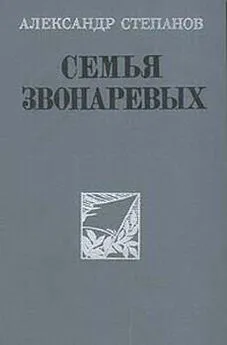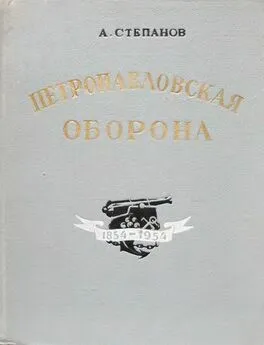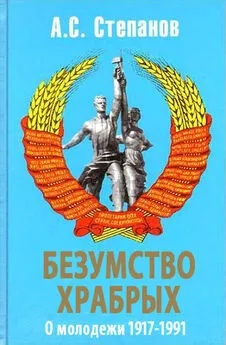Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Название:Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814789
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры краткое содержание
Очерки поэтики и риторики архитектуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, геодезический купол – не архитектура, потому что, будучи универсален, подобно шалашу, который можно использовать и как жилище шамана, и как позицию птицелова, и как отхожее место, купол не основан ни на какой архитектурной поэтике. Он вне архитектурных жанров. В его конструкции нет желания кому-то нравиться или кого-то в чем-либо убеждать. Риторическое усилие может появиться только при переходе от конструкции к материалу и окраске заполнения ячеек: купол в Сокольниках был «золотым», потому что так его покрасили, но был бы «небесным», если бы его покрасили иначе.
Американский павильон в Монреале не имеет отношения к фантастике. Технические сооружения – а геодезический купол относится именно к этому классу объектов – вообще не могут быть «фантастическими», потому что в идеале они должны соответствовать определенным параметрам, несоблюдение которых в редких случах оказывается ценным экспериментом, а по большей части вынуждает сразу выбрасывать их на свалку.
«Фантастической» может быть только архитектура.
Техническое сооружение
Башня ветров
Ни на что не была похожа эта массивная, в семь человеческих ростов высотой, восьмигранная призма с гладкими гранями, сложенными из крупных блоков пентеликонского золотистого мрамора, опоясанная плывущими в воздухе гигантскими крылатыми мужскими фигурами в развевающихся одеждах и завершенная над невысокой пирамидой кровли вращающимся бронзовым Тритоном с палочкой в вытянутой руке. В зависимости от направления ветра острие палочки переходило с фигуры на фигуру. Под каждой фигурой был укреплен стержень, отбрасывающий тень на длинные тонкие прямые линии, прорезанные в стене. Из толщи южной грани выступала круглая башенка, а в северо-западной и северо-восточной гранях под легкими двухколонными портиками темнели двери.
Этим диковинным сооружением, поставленным около 100 года до н. э. на заметном, очень людном месте – Римской агоре и посвященным Афине Архегетис (Градоустроительнице) облагодетельствовал афинян астроном, изобретатель, меценат Андроник родом из македонских Кирр. Это первое в мире восьмигранное здание было и первой же в мире часовой башней, ибо положение тени от стержня-гномона указывало час дня, а в пасмурную погоду и в темноте о времени справлялись, зайдя внутрь, по водяным часам – клепсидре.
Флюгер-Тритон, божок морской, самим своим присутствием над башней свидетельствовал о скрытом в ней водяном механизме и, указывая то на одно, то на другое воздушное божество, помогал запомнить их имена. Фигуры ветров украсили башню как раз там, где приученные ордерным декором афиняне привыкли видеть архитравы. Перекрывая головами легкие горизонтальные членения, колоссальные фигуры, кажется, отделяются от граней башни и летят в выси против часовой стрелки, словно рассекая встречный воздушный поток, создаваемый каждым из них. Солнце же ходит по небу в противоположном направлении, и первое, что оказывается в его лучах, когда они падают на очередное божество, – его лицо.
Одно за другим опрокидывал Андроник из Кирр ожидания, сложившиеся у афинской публики в течение столетий господства архитектурных ордеров. При том что высота входов в башню – в два человеческих роста, портики по контрасту с мощной каменной призмой выглядят приставными хрупкими украшениями, никоим образом не определяющими собой тектонику здания. Колонны портиков, наподобие дорических, без баз; стволы – с желобками глубокими, как в ионическом и коринфском ордерах, а в капителях над низким венцом аканта торчат вверх упругие остроконечные пальмовые листья, смутно напоминая нечто египетское.
Все эти странности приковывали внимание к Башне ветров. При всей очевидности ее практической пользы, архитектура настраивала тех, кто осматривал ее пристально, на мистическое глубокомыслие, обладателями которого греки издревле считали своих ближневосточных соседей – египтян и вавилонян. Эта атмосфера не рассеивалась в течение многих веков. Турецкий путешественник, описывая Афины в 1668 году, сообщает: «Близ мечети Фетхие стоит большое здание для ученых мужей, которое называют павильоном Платона, – примечательное каменное строение о восьми глухих стенах, на которых изображены восемь ветров с их атрибутами» 884 884 MacKay P. A. A Turkish Description of the Tower of the Winds // American Journal of Archaeology, Vol. 73, № 4 (Oct., 1969). P. 468.
.
Не могу взять в толк, зачем в Башне ветров устроены два входа на расстоянии каких-то пяти метров друг от друга. Зная, что она ориентирована точно по меридиану, и полюбопытствовав, в каких точках горизонта восходит афинское солнце, я убедился, что северо-восточный вход ориентирован так, чтобы даже в дни зимнего солнцестояния небесное светило на несколько минут заглядывало в башню узким лучиком. А в дни летнего солнцестояния восходящее солнце сразу же пронизывает интерьер потоком света, который не уходит почти до полудня. Но к чему второй, северо-западный вход? Неужели он существует только ради симметрии? Или тут нужно проследить за лучами луны?
В IV веке христиане начали сооружать баптистерии – многогранные в плане здания с крещальной купелью внутри. Афинским христианам, вышедшим из подполья благодаря Миланскому эдикту Константина Великого, не надо было строить специальное здание. Башня ветров с ее бассейном, сооруженным Андроником для клепсидры, была готовым баптистерием. Не у нее ли заимствовали свою форму все восьмигранные баптистерии мира? Ричард Краутхаймер полагал, что их октогональная форма произошла от значения числа «восемь» как «символа возрождения, спасения и воскресения, ибо мир возник на восьмой день Творения, а Христос восстал из гроба на восьмой день Страстей» 885 885 Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. New Haven, 1986. P. 95.
. Однако история афинской крещальни, как и существование круглых баптистериев (например, при Пизанском соборе) убеждают в том, что принятие той или иной архитектурной формы для обряда крещения не предполагало нумерологического обоснования. Умозрительное осмысление октогональной формы появилось позднее.
Не удовлетворяясь превращением Башни ветров в баптистерий, афинские последователи Христа использовали ее и как колокольню. Уж не в колокол ли перевоплотился бронзовый Тритон?
Колокольня собора Санта Мариа дель Фьоре
Античность не знала колоколен. Эллины предпочитали воспринимать информацию глазами: по сверканию наконечника копья фидиевой Афины Промахос, по дыму или огню Фаросского маяка, по теням гномонов на стенах Башни ветров… Но христианам такой способ подачи сигналов представлялся ненадежным. Ведь зрительное восприятие обусловлено местонахождением каждого отдельного человека, наличием или отсутствием преград между ним и сигнализирующим объектом. Звук же благодаря диффузному распространению в воздухе и нечеткости границ «звуковых теней» настигает каждого, где бы он ни находился, куда бы ни было в данный момент направлено его внимание. Звон колокола – всепроникающее вещание в эфире, которое слышат не только те, кому оно адресовано. Самой природой зрение предназначено для индивидуализации чувственного опыта людей, а слух – для его унификации. Легко отвести взгляд или закрыть глаза – труднее избавиться от преследующего тебя звука. Принудительность звукового сообщения – гарантия его доходчивости и эффективности. Вспоминая легенду об Одиссее и сиренах, недавние язычники приходили к ценному выводу: звуковой сигнал воздействует на людей центростремительно, объединяя их помимо их воли, вопреки индивидуальным различиям и разнообразию сиюминутных намерений. С утверждением христианства империя глаза уступала место империи уха. Жизнь средневековой городской коммуны – чередование частей суток, праздников и будней, начало войны или призыв к бунту, а также повседневная ориентация людей в лабиринте улиц – регулировалась звуковыми средствами. Горожанам не столько надо было видеть колокольню, сколько слышать ее колокола в освященный традицией момент или в час тревоги. Высокие, из разных мест видные сооружения были высоки не для того, чтобы служить зримыми ориентирами, и не ради выразительности силуэта застройки, а в силу их собственной значительности: «я Храм», «я Ратуша», «я Колокольня». Да их и видно-то было лучше чужакам из‐за городских стен, нежели своим людям из лабиринта узких городских улиц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: