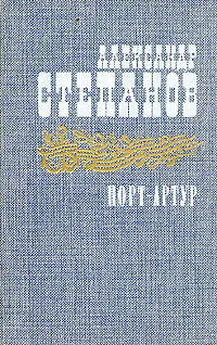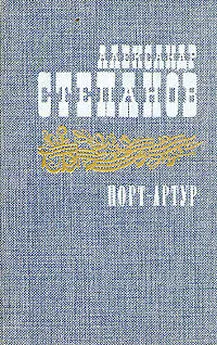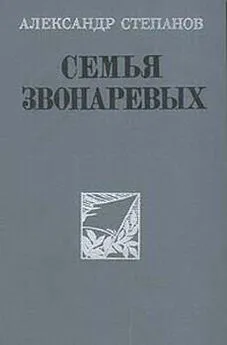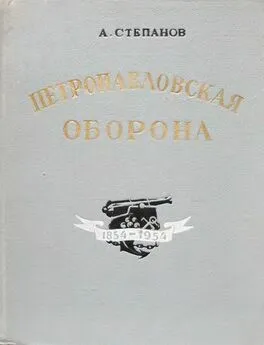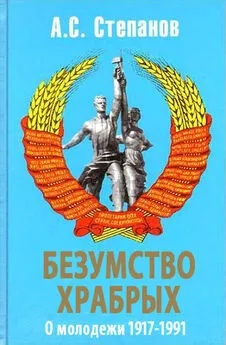Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Название:Очерки поэтики и риторики архитектуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814789
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Степанов - Очерки поэтики и риторики архитектуры краткое содержание
Очерки поэтики и риторики архитектуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своем главном теоретическом труде «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика» 316 316 Semper G. Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Ästhetik. In 2 Bdn. München, 1860–1863.
Земпер рассматривает феномен украшения и его значение в развитии цивилизаций. Он убежден, что художественное творчество происходит из стремления украшать. «Украшение» и «облицовка» необходимы там, «где экстерьер здания хотят выделить как важный символ, как некое самостоятельное человеческое творение». Земпер рассматривает архитектурный проект как воплощение господствующей идеи эпохи. Символический образ рождается фасадом, оболочкой здания, а не его внутренним строением, которое определяется индивидуальными требованиями заказчика. Чтобы подчеркнуть важность качества облицовки, Земпер оглядывается на опыт знаменитых зодчих Раннего Возрождения. Мощный каменный руст как одежда здания – богатое вариантами средство символизации и формирования характерного облика постройки, не требующее применения колонн какого-либо ордера. Но стиль здания, пишет Земпер, определяется не только технологической эстетикой. Он в равной степени важен как самовыражение общества, сформированного религией, общественными условиями и политическими обстоятельствами. По Земперу, в ренессансной архитектуре выражаются два основополагающих принципа: интеграция индивида в общество и осознание им своей «жизненной силы и красоты». Земпер видит в ренессансном зодчестве модель для современной ему архитектуры, потому что Возрождение посредством «объективности и свободы в использовании символов» освободилось от обязанности пользоваться дорическим, ионическим, коринфским ордерами и открыло свою собственную характерную форму экспрессии. Земпер призывает использовать и совершенствовать в современной архитектуре принцип замены типичного характерным, известный древнеримскому зодчеству и достигший полного воплощения в Ренессансе 317 317 Architectural Theory from the Renaissance to the Present. London, 2006. P. 404.
.
В соответствии с этими идеями, Земпер по заказам императора Франца Иосифа I спроектировал для Вены здание придворного театра и грандиозные сооружения, которые ныне воспринимаются как самые внятные символы имперского прошлого австрийской столицы: здания музеев истории искусств и естественной истории, дворец Нойбург. Завершенные уже после смерти Земпера, они стоят на Ринге – полосе бульваров, разбитых на месте снесенных в 1857 году городских стен.
Палаццо Барберини
В 1625 году племянник Урбана VIII кардинал Франческо Барберини купил у разорившегося герцога Алессандро Сфорца участок с виллой на северном склоне Квиринала. Год спустя он подарил это приобретение своему брату Таддео – князю Палестрины и префекту Рима. Князь Таддео расширил владение, чтобы воздвигнуть, вероятно, по желанию их дяди (выразить которое открыто понтифику не пристало), палаццо, который был бы достоин славы их семьи, – попросту говоря, превосходил бы великолепием дворец их главных соперников – Фарнезе. Проект поручили Карло Мадерне, завершавшему работы в соборе Св. Петра. Мадерна, приняв во внимание, что личной эмблемой Урбана VIII (в миру Маттео Барберини) было восходящее солнце, решил поставить палаццо так, чтобы при взгляде от собора фасад будущего палаццо попадал на ось обелиска, стоящего на соборной площади. Тогда наместники престола св. Петра смогут дважды в год любоваться солнцем, восходящим точно над Палаццо Барберини 318 318 В декоре Палаццо встречается солярный знак в виде лучистого лика.
. Было бы удивительно, если бы папе эта идея не понравилась.
Повторяя схему Палаццо Фарнезе, восходившую, в свою очередь, к флорентийскому Палаццо Медичи – каре трехэтажных корпусов протяженностью по пятнадцать окон каждый с квадратным двором посередине, – Мадерна в первом проекте дворца проигнорировал склон Квиринала 319 319 Wittkower R. Op. cit. P. 112.
. От этой схемы ему пришлось отказаться. Тогда он последовал другому фарнезианскому образцу – вилле Фарнезина, построенной в начале XVI века Перруцци. План Палаццо Барберини, воплощенный в чертежи Борромини, приобрел форму буквы «Н», характерную скорее для городских вилл, нежели для дворцов. Объем земляных работ заметно сократился. Через два месяца после закладки нового здания Мадерна умер. Папа назначил на его место своего любимца Бернини, в архитектуре тогда неопытного, и приставил ему в помощники Борромини.
В 1632 году Таддео поселился в северном крыле еще не достроенного Палаццо, однако спустя два года сдал его в аренду третьему из братьев Барберини – кардиналу Антонио. К Антонио переехал и кардинал Франческо из Палаццо Канчеллериа, который он занимал с того момента, как был назначен вице-канцлером Святого престола.
Двадцативосьмиметровой высоты фасад Палаццо образован тремя ярусами высоких арок 320 320 Двухколонный портик с балконом пристроили позднее.
. Аркады, обрамленные полуколоннами тосканского, ионического и коринфского ордеров, подобны спрямленной стене Колизея. Верхним аркам придан вид перспективных порталов, благодаря чему создается впечатление, будто все они воодушевленно смотрят в сторону базилики Сан Пьетро и ввысь, в небо. Однако в действительности верхние окна квадратные и маленькие, но их почти не видно за скрывающим их остеклением арок. Средние окна piano nobile тоже прямоугольные. Несоответствие окон размерам и формам аркад вызвано тем, что посередине Палаццо находится двусветный Большой зал площадью 14,5 на 25 метров и высотой 18 метров. В отличие от принятых в то время конструкций перекрытий дворцовых залов (деревянных кессонированных либо сводчатых на распалубках), Большой зал Барберини – первое в мире обширное светское помещение, перекрытое зеркальным сводом. Его плафон подвешен к высокой стропильной конструкции, скрытой в массивной надстройке, возвышающейся над средней частью здания. Сделать окна выше было бы невозможно, не подняв стропила и тем самым повысив надстройку, и без того нарушающую цельность силуэта Палаццо.
Плафон Большого зала украшает фреска Пьетро да Кортоны «Триумф Божественного Провидения и рода Барберини». Лишь одно живописное произведение превосходило ее величиной – роспись свода Сикстинской капеллы. Нынешние экскурсанты ложатся навзничь на пол посредине зала, думая, что так они получат аутентичное представление об этой фреске. Но вряд ли Кортона рассчитывал на то, что его произведение будут рассматривать долго и сосредоточенно. Если кто и задерживал взгляд на потолке – то, разумеется, стоя. В отличие от станковой картины, роспись предназначалась не для того, чтобы быть источником глубоких переживаний. Если мы не хотим запрокидывать голову до боли в шейных позвонках, то непременно будем видеть карниз, отделяющий фреску от стен. Воображаемый мир «Триумфа» находится над этой чертой. Очевидно, ни заказчик, ни художник не хотели, чтобы у посетителей создавалось впечатление, будто небесное видение вторгается в зал и тем самым разрушает его тектонику. Видение не сливается с действительностью. Иллюзорные эффекты созданы здесь не для обмана зрения, но для того, чтобы вызывать восхищение мастерски написанной квадратурой. Природа этого искусства не мистическая, как то будет в Иль Джезу, а сценическая. Под декорацией да Кортоны аристократическая публика могла вести себя так же непринужденно, как во время театрального спектакля: не пожирать сцену глазами, что характерно для плебса, а лишь посматривать на нее, временами задерживаясь на какой-нибудь прелестной или забавной детали в облике действующих лиц или в изображении места действия и тотчас же беззастенчиво обмениваясь впечатлениями. Фреска Пьетро – сокровищница для мимолетных наблюдений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: