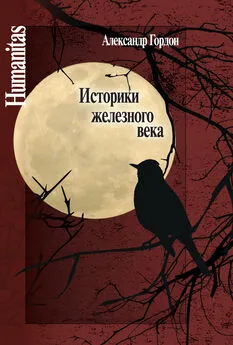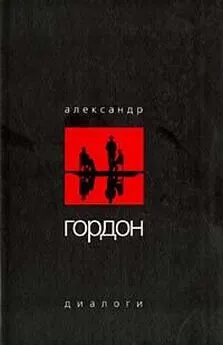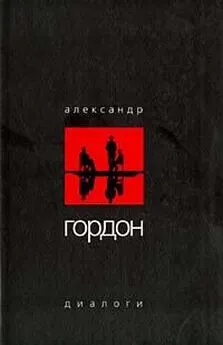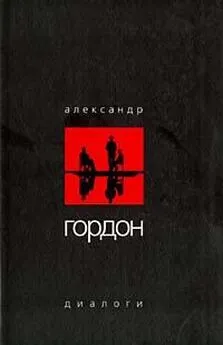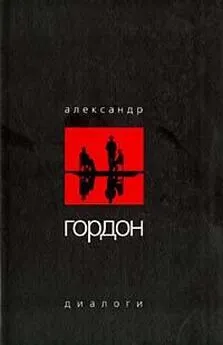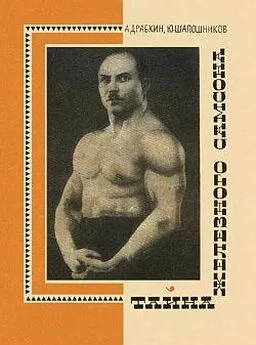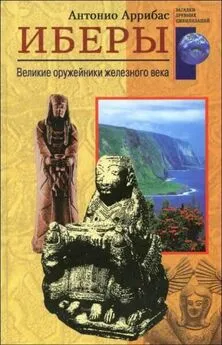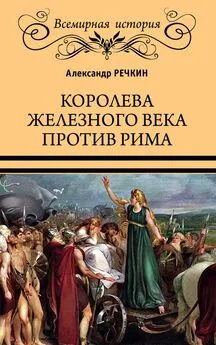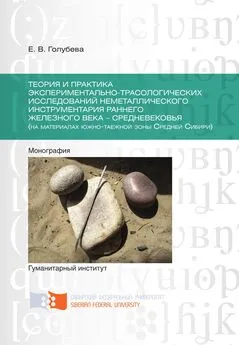Александр Гордон - Историки железного века
- Название:Историки железного века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-849-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гордон - Историки железного века краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Историки железного века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В начале 30-х «Письмо» явилось сигналом для очередной волны идеологического террора. В первую очередь она затронула, разумеется историков партии. Замечательна дневниковая запись С.А. Пионтковского о смятении, охватившем эту когорту, по его словам, «никогда ни в каких оппозициях» не состоявших: «все мы самым искренним образом преданы партии и вдруг мы оказались троцкистскими контрабандистами, фальсификаторами истории партии и большевизма. Ужасно трудно вести преподавательскую работу. На каждом шагу тебя ловят» [86] Цит. по: Дубровский А.М . Дневник историка С.А. Пионтковского как исторический источник. – Режим доступа: file:///C:/ Users/Александр/Pictures/Riga%20modern/Дубровский%20 А.М. pdf
.
Волна погромных «проработок» прошла по всему историческому «фронту», затронув судьбы десятков людей. Причем провокационную роль сыграл прием, уже использованный генсеком на конференции марксистов-аграрников. И после «Письма», как проницательно подметила А.И. Алаторцева, «отлично сработала недосказанность, недоговоренность» Сталина: «Историки сами заполняли паузы (т. е. лакуны. – А.Г. ) именами своих коллег» [87] Алаторцева А.И. Советская историческая наука на переломе 20–30-х годов // История и сталинизм. М., 1991. С. 274.
.
Покончил с собой в ту пору Сергей Михайлович Моносов, среди историков-марксистов личность такая же яркая, как Фридлянд или Старосельский, жизнь и творчество которого ждут своего исследователя. Декан историко-философского факультета МГУ (1930–1931) и первый директор МИФЛИ [88] См.: Мухин И.Н . История МИФЛИ // «Будущего нет и не может быть без наук…». Памяти профессора МГУ М.Г. Седова. М., 2005. См. также: Калистратова Т.И . Институт ФОН МГУ – РАНИОН. 1921–1929. Нижний Новгород, 1992.
. По колоритному выражению Бориса Георгиевича Вебера [89] Будучи сотрудником сектора Вебер рецензировал первые главы моей диссертационной работы и с удовольствием делился своими воспоминаниями об историках первого поколения, к которым и сам отчасти принадлежал. См.: Дунаевский В.А . Борис Георгиевич Вебер (1902–1984) // История и историки: историографический ежегодник. 1982–1983. М., 1987. С. 284–289.
, он был «меньшим террористом, чем другие». Совершил самоубийство в 1933 г., и, как уверял Вебер, не по политическим мотивам, а из-за несчастной любви.
Между тем немаловажный факт – хотя и оставленный профессором в МИФЛИ, Моносов был освобожден от должности директора, одновременно в Институте истории Комакадемии была создана специальная группа «по проверке учебника Моносова [С.М.] “Очерки истории революционного движения”», которая доложила о своей работе 23 марта 1933 г. [90] Стенограмма заседания Группы Института истории Комакадемии (АРАН. Ф.359. Оп.1. Д.220).
. И происходило все это, очевидно, за несколько месяцев до смерти (точную дату которой я не смог установить) и на фоне непрекращавшихся проверок в Институте истории и отчислений сотрудников МИФЛИ.
Вот в моем воображении и складывается цепочка трагических событий начала 30-х: шельмование Захера, арест Старосельского, тяжелое нервное заболевание Фридлянда, самоубийство Моносова… Многие историки-партийцы, говоря словами одного из них, почувствовали себя тогда «рыбой, выброшенной на мель» [91] Цит. по: Дубровский А.М . Дневник историка С.А. Пионтковского как исторический источник. Режим доступа: file:///C:/Users/ Александр/Pictures/Riga%20modern/Дубровский%20А.М. pdf
.
Тяжелым ударом по советской науке, предвещавшим переход к ее полной изоляции, оказался вынужденный разрыв с французскими историками лево-демократического направления Альбера Матьеза. Матьез поддержал протест 15 крупнейших французских историков, включая Сеньобоса, Ренувена, Саньяка, Карона, Сэ, Буржена, против политических процессов в СССР и в частности уголовного преследования Тарле. В ответ в том же 1930-м году последовало открытое письмо Матьезу советских историков из Комакадемии: Лукин, Старосельский, Моносов, Фрейберг, Далин, Кунисский, Завитневич, Авербух. Фридлянд написал Матьезу отдельное письмо, на которое тот ответил. Кроме того, последовали обличительные статьи Лукина и Фридлянда и не менее резкие Матьеза в своем журнале.
Поскольку Матьез выступил с критикой советских порядков, он тут же был провозглашен «антимарксистом», между тем еще в начале 1930 г., по жестким критериям Покровского (который признавал «100-процентными» марксистами лишь участвующих в строительстве социализма в СССР), французский историк «тянул» к 50 % «подлинности» [92] См.: ИМ. 1930. Т. 16. С. 5.
. Красноречивой была позиция Фридлянда. Самый, пожалуй, активный и эффективный популяризатор творчества французского историка написал в предисловии к изданию особо ценной (как он подчеркивал даже после разрыва) его работы: Матьез «вовсе не является марксистом, хотя часто говорит языком Маркса». Однако его книга «представляет ценнейший вклад в марксистскую историю Великой французской революцию» [93] Матьез А . Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.; Л., 1928. С. 5.
.
Оценим широту подхода – книга немарксиста получает высокий статус в рамках марксистской историографии. Вот при таком подходе и происходило сотрудничество «новой» и «старой» школ в советской историографии, ярким примером которого остались РАНИОН и судьба его сотрудников. Все изменилось с поворотом к террору, в данном случае совершенно непосредственно. Уголовное преследование ученых в СССР явилось предпосылкой разрыва международных научных связей.
В сущности, от начала и до конца последовавшая полемика [94] См.: Дунаевский В.А . Полемика Альбера Матьеза с советскими историками // ННИ. 1995. № 4 (публикация документов); Погосян В.А . К вопросу о полемике Альбера Матьеза с советскими историками // ФЕ. 2012. С. 430–445. См. также: Гордон А.В . Власть и революция… С. 93–96.
имела политическую доминанту. Как и в случае полемики с Оларом, советские историки защищали Советскую власть, в данном случае сказать откровенно – ее право на репрессии. И, подобно полемике с Оларом, это была, говоря современным языком, «контрпропаганда», при этом в методологическом отношении советские историки противопоставили Матьезу сектантское толкование учения Маркса.
Как уточняют современные французские исследователи, Матьез отвергал не марксистский метод, а его «догматические искривления» [95] Цит. по: Погосян В.А. Указ. соч. С. 437.
. Подобно Карееву, французский историк признавал возможность различных исторических подходов и притом допускал использование «экономического материализма» и даже – в отличие от Кареева – классового подхода. Более того, и то и другое имело место в его собственных работах.
Декларации его оппонентов из СССР сводились к тому, что только марксизм обеспечивает научное познание истории и что существует лишь одна разновидность Учения, та, что господствует в СССР – учение о классовой диктатуре и правящей партии. Это, заявлял Фридлянд, «революционный, политически заостренный марксизм», руководство к действию [96] См.: Фридлянд Г.С . «Казус» Матьеза // Борьба классов. 1931. № 1. С. 100–105.
.
Интервал:
Закладка: