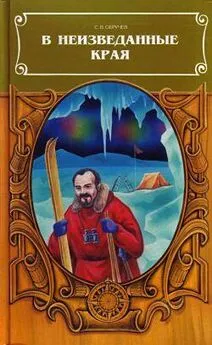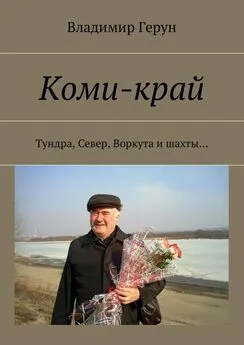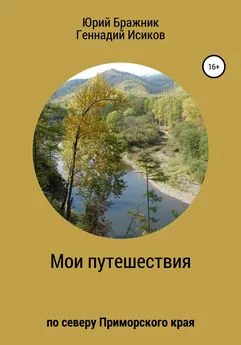Владимир Обручев - В неизведанные края. Путешествия на Север 1917 – 1930 г.г.
- Название:В неизведанные края. Путешествия на Север 1917 – 1930 г.г.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Обручев - В неизведанные края. Путешествия на Север 1917 – 1930 г.г. краткое содержание
Содержание; Открытие хребта Черского: Задачи экспедиции; От Якутска до Алдана; Через Верхоянский хребет; В ветке по Индигирке; Где же, наконец, Чыбагалах?; Обратно к Эльги; На Полюсе холода; В горных ущельях при 60 градусах мороза; Хребет Черского; Два года на Колыме: На быках и на оленях; К истокам Колымы; Через пороги к Таскану; По Колыме до Средне-Колымска; В низовья Колымы по следам Черского; Снова олени; В стране юкагиров; Найдем ли перевал?; Вниз по Омолону; Среди полярных льдов; Тунгусский бассейн: Через пороги Ангары; Следы древних вулканов; По Енисею к Полярному кругу; Ближняя Катанга; В Баренцевом море: На "Персее" у берегов "Шпицбергена"; В Карских Воротах; Мыс Желания
В неизведанные края. Путешествия на Север 1917 – 1930 г.г. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уезжая, эвены поразили нас проявлением своей образованности: когда я фотографировал их во время посадки на оленей, один из них стал кричать: "Аракай!" — оказалось, что это искаженное слово "карточка". Они уже слышали об этом изобретении и даже, по-видимому, видели чьи-то карточки. Олени шарахались и храпели и, когда эвены вскочили на них, помчались быстрой иноходью, разбрасывая глубокий снег.
На другой день мы передвигаемся ближе к стану эвенов. На полдороге они выходят нам навстречу.
Хотя Омолон был уже как будто близко, в палатке рабочих вновь и вновь дебатируется вопрос о том, хорошо ли мы делаем, что идем на Омолон, не застрянем ли мы там и не будем ли "куковать на Омолоне". Михаил Перетолчин уговаривает ме ня — лучше выйти на морское побережье к Гижиге, и когда я говорю, что до Гижиги дальше, чем до Омолона, он уверяет, что напротив: "Гижига близко, я уж знаю, как мне не знать?"
Весело и бодро мы двигаемся дальше. Теперь уже нет никаких сомнений, что так или иначе на Омолон мы попадем, и нет тяжких колебаний в выборе пути. Мы оставляем широкую долину Коркодона, уходящую далеко на юг, и поднимаемся на восток по Русской реке, углубляясь в высокую цепь гор, отходя щую от главного Охотского водораздела — хребта Гыдан — и тянущуюся далеко на север.
Новый проводник оказывается очень мало полезным: он не умеет выбирать дороги для большого оленного каравана. На второй день Бека решает его отослать обратно.
На Русской реке скоро появляются тарыны, занимающие почти все дно долины, а на склонах — остатки ледниковых морен и "бараньих лбов". Километрах в пятидесяти от устья долина реки сразу расширяется и на юг открываются высокие горы Иняга, Все долины, идущие из этих гор, загромождены моренами, и вдоль склонов тянутся также ряды морен. Мы останавливаемся на ночлег у подножия холмов на опушке ред кого леса с кривыми стволами.
На следующий день приходится выяснять, куда же итти? По словам отпущенного нами проводника, чтобы сократить путь, надо, не доходя истоков реки, перевалить через холмы правого берега. И вот Кука внезапно свертывает к цепи холмов и заставляет весь караван подняться по ближайшей лощине. Но с перевала приходится спускаться обратно, к той же Русской реке, повернувшей немного к востоку. Все смеются над Кукой, потому что он проворонил настоящий поворот, который сокра щает расстояние, и заставил нас напрасно взбираться на холмы.
Но мы так и не смогли точно, установить, где находится истинный перевал между бассейнами Коркодона и Омолона. Широкая ледниковая долина переходит совершенно незаметно в другую, спускающуюся уже к Омолону; здесь течет речка, также называющаяся Русской рекой. С юга все время тянется непрерывная высокая стена гор Иняга, а на севере сквозь туман и снег проглядывают такие же крутые склоны гор Моль каты.
Огромная долина шириной до пяти километров, по которой мы переваливаем, была когда-то проложена большим ледником. Ледник этот шел откуда-то с востока, с существовавших тогда плоскогорий, переходил через Омолон и переваливал на запад в долину Коркодона.
Несмотря на то, что почти все время идет снег и пасмурно, блеск снежных равнин, не смягченный лесом, который кончается уже на высоте 800 метров, совершенно нестерпим. Все мои спутники давно уже надели снеговые очки, опасаясь снеговой слепоты. Я долго храбрился, — сквозь очки смотреть неприятно, они запотевают, и их приходится протирать,— но в конце концов у меня заболели глаза, и я с трудом мог глядеть. Среди эвенов и якутов теперь уже широко распространены очки с темными стеклами. Те, кто их еще не имеет, носят или особый козырек, сделанный из длинной шерсти, или примитивные северные снеговые очки — дощечку с узкими щелками.
2 апреля мы спускаемся с перевала в более низкие области. Долина Русской реки перегорожена высоким моренным валом, и ниже его лежит громадный тарын. Над тарыном, на склоне горы, острые глаза Куки разглядели чум и оленьи стада. Реше но остановиться выше тарына, который представляет большие трудности для перехода, и расспросить жителей этого чума о дальнейшей дороге.
Бека, наш дипломатический посол, отправляется для пере говоров. Но тут не нужно было уговаривать: жители чума немедленно приезжают сами. Это эвены и коряки, работники богатого оленевода коряка Каменкина, которые пасут одно из его стад. Один из коряков оказался чрезвычайно бойким. Он немедленно садится у нас в палатке, начинает поедать все, что стоит на столе, и просит:
– Господин, дай маленький.
Это значило, что ему надо дать маленький стаканчик водки. Он говорит очень много, энергично жестикулируя, стараясь убедить в превосходных качествах оленя, которого он собирает ся продать нам, и в том, что он может хорошо вести нас по Омолону.
Здешние коряки и эвены уже нередко выходят на Охотское побережье, посещают русские фактории. Мы покупаем у них одного оленя и договариваемся, что они поведут нас вниз по Омолону, который, оказывается, совсем близко, тотчас за тарыном и ближайшим лесом.
Но эвен не сулит нам ничего хорошего на этом пути. Он говорит, что снег на Омолоне во многих местах настолько глу бок, что кочевки эвенов не могли пройти вниз по реке.
Разбитной эвен вместе со своим товарищем коряком является на следующее утро для того, чтобы вести нас вниз по Омолону. Коряк пришел на широчайших лыжах, даже более широких, чем мои, — каждая была шириной в тридцать пять сантиметров, и так как коряк ходил, несколько раздвинув ноги, то захватывал полосу шириной до метра. Эвен приехал на ко ряцких нартах.
Приморские коряцкие легковые нарты резко отличаются от тех эвенских и якутских, которые мы видели до этих пор внутри страны. Это очень легкое сооружение, копылья сделаны из приморской кривой березы и представляют ряд дуг, упираю щихся в полозья, — нечто вроде шпангоутов лодки. На нарту может сесть только один человек, она узкая и легкая, очень удобна для быстрой езды, но непригодна для перевозки грузов. Олени здесь меньше эвенских, сухопарые и почти черные.
Тотчас ниже стана лежит большой тарын, его поверхность совершенно гладкая, и он доставляет нашим оленям очень много неприятностей. Они не могут итти по этой гладкой ледяной поверхности, так что многие нарты приходится отпрячь и пере двигать силами людей. Когда связка вступает на лед, ямщик старается тащить ее бегом, не давая останавливаться, потому что сдвинуть с места тяжелую нарту на льду олени уже не смогут. Если несколько оленей падают, ямщик не обращает на них внимания, и связка тащит оленей, лежащих на льду в самых живописных позах: на спине, на боку, с болтающимися кверху ногами. Только если падает большая часть оленей, по необходимости приходится останавливаться и разделять связку на части.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: