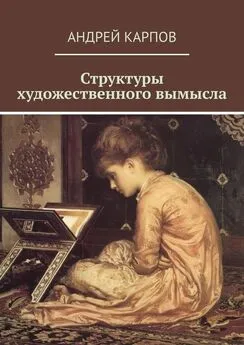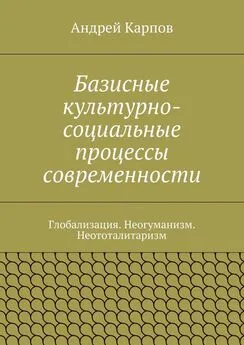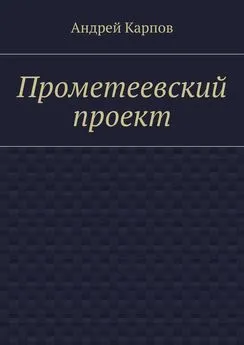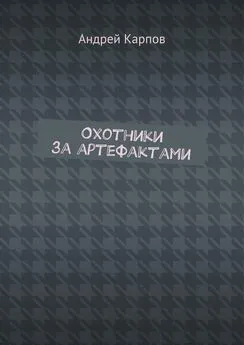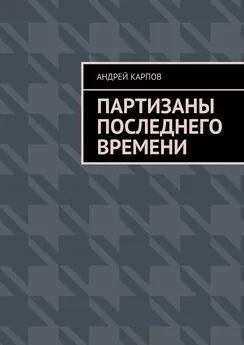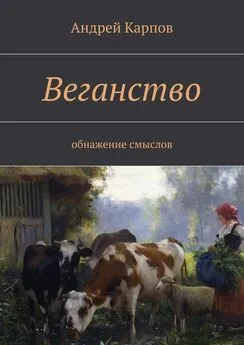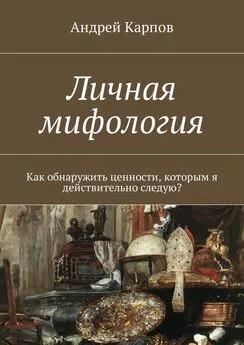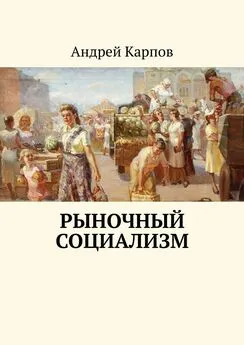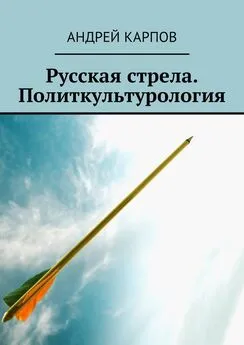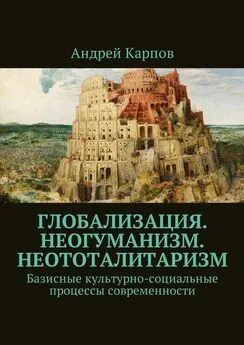Андрей Карпов - Структуры художественного вымысла
- Название:Структуры художественного вымысла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005031358
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Карпов - Структуры художественного вымысла краткое содержание
Структуры художественного вымысла - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мнение, что универсальных сюжетов не существует, встречается довольно часто. Оно по-своему справедливо. Действительно, несложно найти две истории, весьма непохожие друг на друга. Что общего, например, у героической былины, описывающей битву Добрыни со змеем, и анекдотической сказки про старика и старуху, поспоривших о том, кто первый заговорит? Но чем больше прочитано историй, тем чаще возникает узнавание: другие имена, другие слова, другая последовательность событий, но за всем этим возникает подобие более высокого порядка, сходство на уровне структуры, иногда явное, а иногда лишь угадывающееся.
Человек обладает свободой воли. Его мысли и поступки не предопределены. Поэтому всё, что имеет отношение к проявлениям нашей психики, характеризуется более высокой степенью сложности, чем, скажем, система физических тел. Физическая система может быть описана математически; применительно же к множеству рассказываемых историй математическое понятие формулы может быть приложено лишь в более широком, общекультурном смысле – в качестве метафоры.
Накладывая истории друг на друга, мы не получим строгого совпадения. Также не удастся выделить признак или группу признаков, общих для всех историй. Множество так и останется множеством, не превращаясь в операционную единицу. И всё же какие-то закономерности выявить можно. Истории обладают несомненным семейным сходством (термин Людвига Витгенштейна).
Витгенштейн вводит этот термин, пользуясь примером множества игр. Мы объединяем словом игра деятельность, плохо поддающуюся формальному описанию. Какое бы определение игры мы бы ни взяли, всегда найдётся какое-нибудь занятие, позволяющее нам называть себя игрой, под это определение не подпадающее. И в то же время, игры нетрудно сгруппировать, выделяя каждый раз какую-то одну из ведущих черт. « Результат этого рассмотрения таков », – подводит итог Витгенштейн: « мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом » (Философские исследования 1 1 Ludwig Wittgenstein. Philosophical Investigations (1953). Витгенштейн писал на немецком. Он умер в 1951 году. Его рукопись была переведена на английский и опубликована через 2 года после его смерти.
, I, 66). И далее: «Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их „ семейными сходствами“, ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. И я скажу, что „игры“ образуют семью » (Философские исследования, I, 67).
Принцип семейного сходства отлично подходит и для массива историй, накопленных культурой. Не претендуя на полноту охвата, можно выделить базовые черты и попытаться составить портреты наиболее характерных сюжетных типов. Вместо универсальной формулы читательского интереса у нас получится портретная галерея наиболее востребованных сюжетов.
Глава 2. Типология литературных сюжетов
Множество историй, охватывающее мировую литературу, театр и кинематограф, рождает в нас узнавание: знакомясь с очередной историей и твёрдо зная, что она для нас новая, мы, тем не менее, замечаем, что с чем-то подобным нам уже приходилось сталкиваться. Некоторые истории обладают сюжетным сходством. За предстоящим нам чуть ли не бесконечным множеством скрывается считанное количество базовых сюжетных ходов. Возникает естественное желание их описать, выстроить типологию универсальных литературных сюжетов.
2.1. Классификация элементов
Методология поиска типичных черт может быть разной. Во-первых, любую историю несложно представить в виде ряда последовательных сюжетных ходов (элементов сюжета). Эти элементы кочуют из истории в историю и могут быть описаны. Что, например, и сделал наш знаменитый фольклорист В. Я. Пропп в своей классической работе «Морфология волшебной сказки» (1928). Выделенные элементы он называет функциями персонажей. Примеры таких функций:
– Антагонист (вредитель) наносит одному из членов семьи вред или ущерб
– Ущерб становится известен и перед героем встаёт задача исправить ситуацию
– Герой покидает дом
– В распоряжение героя попадает волшебное средство
– Герой вступает в борьбу с антагонистом
– Герою предлагается трудная задача
– Герой вступает в брак и воцаряется
Последовательность функций предопределена развитием сюжета. Сначала должно случиться что-то такое, что требует действий героя. Потом герой отправляется в путь. С волшебной помощью (анализ проведён на материале именно волшебных сказок) он совершает свои подвиги, затем возвращается. Как правило, у героя пытаются украсть победу, но правда торжествует, и всё вершает счастливый конец. Как утверждает Пропп, все волшебные сказки укладываются в эту схему.
Число возможных функций (сюжетных ходов) ограничено. Пропп насчитывает 31 базовый вариант; некоторые из функций существуют в разных вариациях.
Однако волшебная сказка всё же достаточно специфична. Её шаблон не может быть принят как универсальный, хотя многие из описанных Проппом элементов распространены действительно широко и встречаются далеко не только в сказке.
Более широкую область, охватывающую преимущественно драматургию и трагедию, покрывает другая известная типология сюжетных ходов. За треть века до выхода «Морфологии сказки» французский театровед Жорж Польти издаёт свою, пожалуй, самую известную работу «Тридцать шесть драматических ситуаций» 2 2 Georges Polti. Les 36 situations dramatiques
(1895). На основе анализа 1200 книг и проследив за судьбами 8000 их персонажей, Польти приходит к выводу, что существует лишь 36 типовых ситуаций. В их числе: роковая неосторожность, супружеская измена, безумие, похищение, бунт (мятеж), потеря близких, угрызения совести, спасение и т. п.
Список Польти неоднократно критиковали. Ему недостаёт системности. Многие ситуации, поставленные в общий ряд, можно было бы объединить в более крупную единицу. Например, в списке Польти есть самопожертвование ради идеала, самопожертвование ради близких и жертва ради страсти. И если последняя ситуация по этической оценке и эмоциональной окраске противоположна первой и действительно является самостоятельной единицей, то вторая с первой полностью совпадают. Переступая через себя ради своих убеждений, человек испытывает ту же нравственную мотивацию, что побуждает его жертвовать собой ради близких.
Но самым главным недостатком подхода Польти является пренебрежение целостностью произведений. Его драматические ситуации – это кубики, которые могут быть составлены в любом порядке. Подобный инструментарий даёт возможность описать историю, разложить её на элементы, но он никак не поможет ни воспринять, ни понять её. История не «заговорит». Анализ не приведёт к синтезу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: