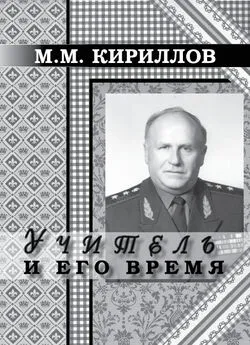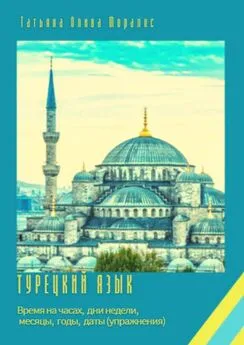Михаил Котин - Язык и время
- Название:Язык и время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907117-01-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Котин - Язык и время краткое содержание
Язык и время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем и классическая концепция языка Гримма – Шлейхера, выдвинувшая, между прочим, на первый (строго говоря, единственный) план его историко-генеалогическое рассмотрение, и структуралистские течения, восходящие к Соссюру и его последователям, поменявшие перспективу с исторической на синхронную, оставляют вопрос о локализации языка как организма или как системы знаков открытым. Компромиссное решение предложено было Хомским (ср. Chomsky 1965: 3), который вводит понятие «идеального носителя родного языка» (ideal native speaker-listener) 4 4 «Linguistic theory is concerned with an ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance».
:
Лингвистическая теория предполагает идеального говорящего-слушающего в абсолютно однородном языковом сообществе, который в совершенстве владеет языком и не зависит от таких несущественных с точки зрения грамматики условий, как ограничения в объёме памяти, рассеянность внимания и концентрации и ошибки (случайные или характерные) при использовании своих языковых знаний в актуальном языковом общении (перевод с английского мой. – М. К. ).
Это, безусловно, абстрактная и виртуальная величина, как, например, идеальный газ в химии. В реальности никакого идеального носителя языка быть не может, но в теории подобные конструкты необходимы для того, чтобы, описывая их, можно было приписать им некие общие качества, объединяющие «неидеальные», реальные объекты, отсекая всё «вторичное», индивидуально обусловленное. Так, идеальный газ обладает всеми структурными свойствами каждого реального газа, за исключением тех, что отличают реальные газы друг от друга. Характерно, что Хомский вполне обоснованно говорит не об идеальном языке , но об идеальном носителе реального, конкретного языка, помещая, таким образом, конкретный язык в некий абстрактный, идеально устроенный и лишённый возможностей перформативных (системно-языковых) ошибок и отклонений человеческий мозг. Такая локализация языка отвечает как идиолектальному (антропологическому), так и системно-социологическому подходу. Но, самое главное, она не противоречит органическому рассмотрению языка как самостоятельного организма, при этом показывая, где именно такой язык может быть локализован и как именно он может быть зафиксирован. Тем самым преодолевается разрыв между языком и его носителями, с одной стороны, и устраняется зависимость языка от конкретных носителей – с другой. Чего данное понятие, однако, не включает – это историко-генеалогического измерения, то есть естественной истории естественных языков. Иначе пришлось бы допустить, что идеальный носитель языка рождается с возникновением языка и живёт вплоть до его смерти. В реальности происходит смена поколений носителей языка, с которой меняется и сам язык. Можно было бы, конечно, ввести понятие идеального носителя данного синхронного среза языка. Но поскольку языковые изменения происходят с разной скоростью и охватывают разное число сменяющихся поколений, данная конструкция была бы едва ли возможной для теории языка, учитывающей его историческое измерение.
Все названные проблемы вполне тривиальны, если принять во внимание, что человеческий язык, подобно живым организмам, имеет свой онтогенез и свой филогенез, которые в целом ряде аспектов обнаруживают точки пересечения. Действительно, процесс освоения родного языка ребёнком вполне может служить моделью развития языка от его зарождения до нынешнего времени. Преувеличивать значение такого моделирования, как это делает, в частности, Д. Лайтфут (Lightfoot 1991; 1999), впрочем, тоже не следует. Руководствуясь теорией принципов и параметров, являющейся одной из составляющих генеративной лингвистики Хомского в её сравнительно позднем варианте (ср. Chomsky/Lasnik 1993, Chomsky 1995), он предлагает изгнать «музу Клио» из теории языковых изменений, ограничившись исследованием того, как ребёнок, изучающий родной язык, постепенно приобретает навыки речевой деятельности, а допускаемые им ошибки, вытекающие из стремления, в частности, упростить и выровнять по принципу аналогии и экономии сложные маркированные языковые формы, рассматривать в плане сценария оптимизации языка в ходе его развития. Обращая результаты таких наблюдений в прошлое, Лайтфут считает возможным объяснить и те изменения, которые в языке уже произошли, – именно как превращение ошибок сегодняшнего дня в нормы дня завтрашнего.
В действительности соотношение онто- и филогенеза в языке отнюдь не столь линейно и однозначно, хотя отрицать его было бы неверно. Ниже будут показаны области пересечения обеих форм языкового генезиса на конкретных примерах. Здесь же ограничимся пока фиксацией того, что язык как объект научного интереса обнаруживает явные признаки естественных, органических объектов (как онто- так и филогенез), в силу чего его инструментализация и рассмотрение в качестве сотворённого людьми средства общения вряд ли оправданы. Дело в том, что, как справедливо подчёркивает Элизабет Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), инструменталистский подход к языку является одним из главных препятствий для его адекватного, в том числе исторически ориентированного описания, поскольку инструменты отличаются тем, что нас, как правило, мало интересует история их возникновения и развития. Этим инструменты разнятся от природных явлений и естественных организмов. Язык, безусловно, имеет черты и тех, и других, о чём пойдёт речь в последующих главах. Поэтому его адекватное описание предполагает выработку такой модели, которая будет совмещать в себе методологию исследования природных феноменов и артефактов.
Генеративная лингвистика Хомского в её ранней версии, то есть генеративистика «Синтаксических структур» (ср. Chomsky 1957) и «Аспектов теории синтаксиса» (ср. Chomsky 1965), проводит в структуре языка резкую, принципиальную границу между «словарём» как приобретённым, обусловленным рядом внеязыковых факторов языковым знанием a posteriori , и собственно лингвистическим, внутренним, прирождённым знанием a priori , существующим у каждого человека в виде логической мыслительной структуры, связывающей именную и глагольную фразы без их конкретного лексического наполнения, что составляет основу синтаксиса и вообще любого типа грамматической категоризации. Именно благодаря второй, априорной, грамматической компоненте лингвистического знания, обусловливающей языковую компетенцию, каждый человек в состоянии выучить по крайней мере один язык. Таким образом, структурно язык, локализуемый в виртуальном мозге виртуального «идеального говорящего» и являющийся именно в этом его виде объектом лингвистической теории, состоит из переменной величины – словаря (лексикона) и постоянной величины – логического синтаксического модуля, который в самом общем виде выглядит как NP – VP (noun phrase / именная фраза – verbal phrase / глагольная фраза). Посредством расширения и усложнения синтаксического модуля возникают правила, согласно которым в каждом конкретном языке слова соединяются во фразы, и ограниченный (хотя и весьма большой) набор слов служит основой для порождения гипотетически практически неограниченного числа предложений. Правилами называются при этом исключительно системно обусловленные законы порождения фраз, а не правила в значении принятых норм, обусловленных социально и подверженных произвольно вводимым извне изменениям. Укрытые синтаксические модули именуются «глубинными структурами» (depth structures), реализуемыми посредством создания «поверхностных структур» (surface structures), то есть реальных (озвученных) фраз. При этом установить форму глубинной структуры невозможно иначе, как возводя к ней структуру поверхностную, «сокращённую» благодаря логическим процедурам до логической схемы. Объектом лингвистической теории Хомский и его последователи объявили именно поиск глубинных структур, стоящих за структурами поверхностными, как гены стоят за белыми и жёлтыми цветками или молекулярная формула H 2O – за водой. Однако в отличие от генетики или химии экспериментально зарегистрировать глубинную структуру языка невозможно, вследствие чего приходится довольствоваться материалом поверхностных структур, чтобы вывести из них лежащие в их основе синтаксические схемы логического порядка. Все прочие аспекты, которые рассматривались в языковедении до Хомского, включая теорию номинации и вообще вопросы, относящиеся к значению языковых знаков, генеративная теория объявляет «донаучными» (pre-theoretical), поскольку объектом научного знания, получаемого путём построения теории, основанной на научной гипотезе и её эмпирическом доказательстве, по мысли Хомского и его последователей, могут быть исключительно феномены, осмысляемые с точки зрения законов, родственных законам естественных наук или законам логических построений. Дескриптивная (описательная) сторона лингвистики не может, согласно теории генеративной грамматики, быть самостоятельным объектом научного исследования и выполняет поэтому лишь вспомогательную задачу при построении лингвистической теории, целью которой, как целью всякой теории вообще, является не описание феномена, но его объяснение .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: