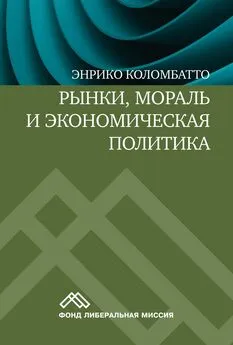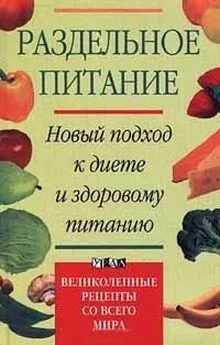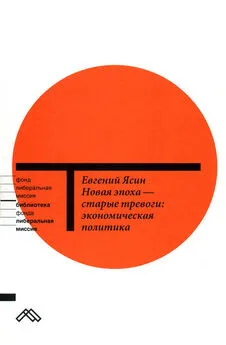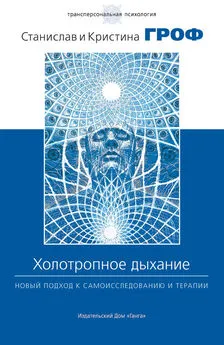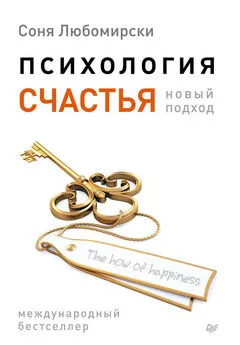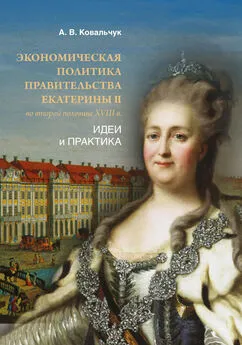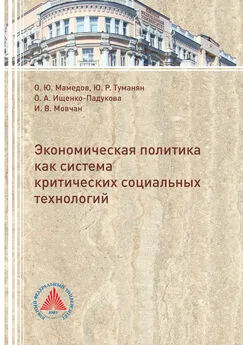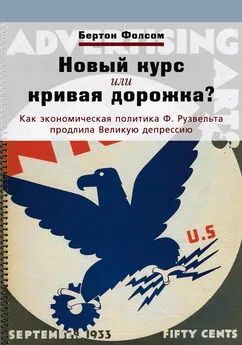Энрико Коломбатто - Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка
- Название:Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-604-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Энрико Коломбатто - Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка краткое содержание
Автор показывает, что решение нужно искать в уроках шотландского Просвещения: политическая система должна обеспечивать возможность для индивидов пре следовать собственные цели будучи свободными от принуждения. Это также подразумевает индивидуальную ответственность, уважение к чужим предпочтениям и к предпринимательскому чутью других людей. При таком понимании политики общественное благо не определяется через приоритеты лиц, разрабатывающих социально-экономическую политику, а возникает как результат взаимодействия самоопределяющихся индивидов. Таким образом, наиболее сильный и последовательный аргумент в пользу экономики свободного рынка базируется на моральной философии.
Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите экономики свободного рынка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
134
Разумеется, пользоваться монопольной властью не означает, что эта власть будет применяться каждый раз, когда стороны пожелают, чтобы государство вмешалось. С одной стороны, правитель может решить не принуждать к исполнению своих собственных правил ввиду недостаточности ресурсов. С другой стороны, он может не принуждать к исполнению правил просто потому, что ему это не нравится. Эта проблема часто возникает при заключении соглашений международного арбитража: иногда некоторые правители не признают их и не принуждают к их исполнению. Пока что они не позволяют другим агентствам, поставляющим услуги по принуждению, заменить государство.
135
Напомним, что под принудительными нормами здесь понимается не насильственное принуждение к исполнению норм и правил, а ситуация, в которой нельзя выбирать между принятием этих норм и отказом от них.
136
Сложное социальное образование состоит из естественных единичных элементов, гарантирующих демографическое выживание вида. К отмечалось выше, широко признан тот факт, что до вплоть до самого последнего времени таким естественным единичным элементом была семья (в широком понимании).
137
«Традиционный» тип легитимности имеет место в ситуации, когда суждение о легитимности выносится на основании критерия, внешнего по отношению к человеческой деятельности и человеческой истории. Это происходит, например, когда утверждается, что король должен быть назначен Богом. Очевидно, что в этих условиях религиозный посредник играет критически важную роль. В противоположность этому «рациональный» тип легитимности использует моральные критерии, разработанные и одобренные человеком, либо посредством рационального мышления (соображения эффективности), либо с апелляцией к успешному предшествующему опыту (исторический релятивизм).
138
Как указано в [Nemo, 2004, 27], эта концепция восходит к античным стоикам. См., в частности, ссылку на Цицерона, которую Немо приводит в своей работе: Cicero , De Republica, III, XXII. Задача философа состоит в том, чтобы определить это природное качество, тогда как ученый-юрист должен обеспечить соответствие законов этому природному качеству.
139
Неудивительно, что сторонники тезиса «человек есть общественное животное», проводя различие между человеком и другими млекопитающими, вынуждены использовать в качестве критерия не свойство быть социальным, а другие признаки. Аристотель заметил, что пчелы социальны, однако пчелы – не то же, что люди, которые являются социальными и политическими животными. Как недавно напомнил Мэчан в [Machan, 2004], наиболее часто в качестве таких критериев указываются способность делать осознанный выбор и рациональность. Нужно заметить, однако, что таких вещей, как социальная осознанность и социальная рациональность, не существует, поскольку оба эти качества – типичные проявления индивидуальности: именно индивид выбирает и именно индивид оценивает тяготы и выгоды, связанные с выбором и контекстом. Это не означает, что у индивида нет своего мнения о том, чтó является (или могло бы являться) благом также и для других индивидов. Однако, признавая это, мы все равно остаемся в области субъективных (индивидуальных) соображений и суждений.
140
Пуфендорф фон, Самуэль, барон (1632–1694) – немецкий юрист, политический философ, экономист, историк и государственный деятель, автор комментариев к сочинениям Томаса Гоббса и Гуго Гроция, внесший значительный вклад в разработку теории естественных прав. – Прим. науч. ред .
141
Проводя это различие, Пуфендорф, по всей видимости, пытался провести разграничение между данными Богом природными инстинктами и открытыми человеком естественными институтами. Он считал, что естественные институты должны быть совместимы с богоданными природными качествами человека и в конечном счете должны быть связаны с божественным порядком. Это объясняет, почему принудительные институты не являются, по его мнению, естественными, но представляют собой тем не менее моральный императив.
142
Трудно переоценить роль, которую играл человек в классической философии. В то же время в классической традиции, особенно у греков, критически важным элементом остается общество, в котором индивид реализует свою природу общественного и политического животного. Понятие добродетели, являющееся центральным для классической философии, служит для определения достойного поведения человека, стремящегося жить по своей природе, но и вносить свой вклад в общественное тело.
143
Разумеется, взгляды Гоббса на способность человека быть социальным отличаются от того, что считали Гроций, Пуфендорф и Локк. У Гоббса легитимность политического режима проистекает из необходимости обеспечить надежное выживание. Гроций возводит ее к способности удовлетворять интерес универсального сообщества индивидов, Пуфендорф – к соответствию данному Богом естественному праву (которое должно быть открыто посредством разума). Наконец, у Локка легитимность политического режима восходит к способности защищать права собственности отдельных членов соответствующего политического сообщества.
144
См., например, [Strayer, 1970, ch. 1]. Хотя взаимодействие с членами семьи и друзьями можно вполне обоснованно причислить к способам создания общества, в данном вопросе мы следуем Токвилю, который трактовал уход в семейный и дружеский круг как «индивидуализм». Мы определяем посредством термина «общество» более сложные формы взаимодействия.
145
См. об этом у Давида Юма в его «Трактате о человеческой природе» [David Hume, Treatise ofHuman Nature (1740) 2000b, book 3, part 2], где он пишет об обществе как о результате «соглашения о разграничении собственности и стабильности владения» (§ 12).
146
Естественный общественный договор встроен в природные качества индивида. Он может состоять, например, в соглашении сражаться против общего смертельного врага, поскольку такое соглашение соответствует инстинкту выживания. Подразумеваемый общественный договор – это такой контракт, который подписал бы каждый, если бы его спросили, и принуждение к выполнению которого, поэтому, осуществляется по умолчанию, чтобы уменьшить издержки на его исполнение. Хрестоматийный пример договора этого рода дает, конечно, Локк. Стейн в [Stein, 1980, 2] указал, что у Локка фигурируют два разных договора – один касается преследуемой цели, а другой – актора, отвечающего за преследование цели от имени сообщества. В последние десятилетия XX в. различные версии подразумеваемого общественного договора были предложены Хайеком, Ролзом и Бьюкененом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: