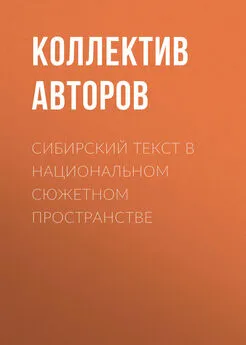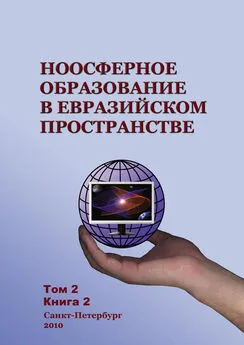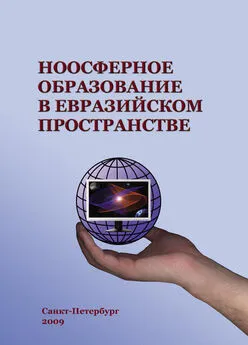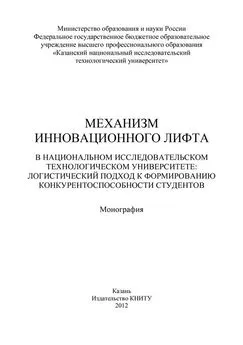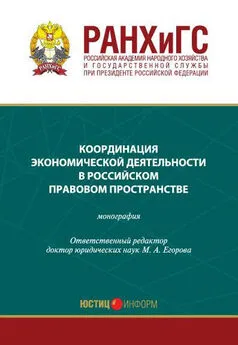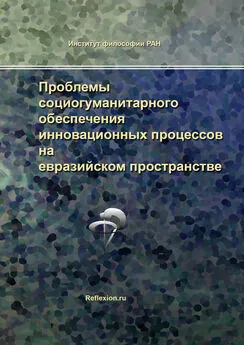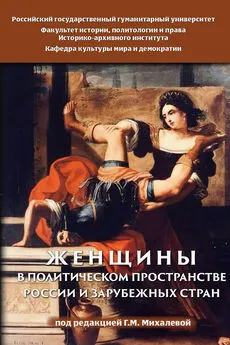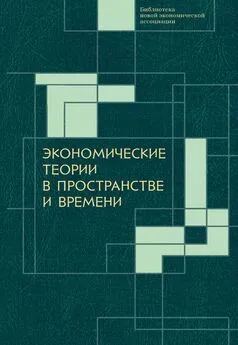Коллектив авторов - Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
- Название:Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7638-1923-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве краткое содержание
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зауралье – потенциально открытый географический образ. В содержательном отношении оно может представлять из себя целостный «веер» дискурсов, направленных на ментальное освоение собственно Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Монголии, Центральной Азии в целом, Китая. В отличие от географических образов Сибири географические образы Зауралья могут разрабатываться и конструироваться как комплексные экстравертно-интровертные системы с использованием принципа дополнительности: всякий вновь разрабатываемый образно-географический дискурс имеет когнитивную «поддержку» соседних дискурсов, как бы вставляющихся друг в друга, оппонирующих друг другу и в то же время взаимодополняющих 48 48 Ср.: Митрофанова Л.М. «Урал», «Зауралье», «Россия» и «Сибирь»: перекресток понятий в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка // Литература Урала: история и современность. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург, 2008. С. 130-136.
. Следует учесть, что в своей основе эти образы должны иметь российское цивилизационное происхождение, что не может мешать плодотворным знаково-символическим заимствованиям.
В основе потенциально эффективного развития географического образа Зауралья и в целом в метагеографии Зауралья должна находиться система устойчивых пространственных представлений об Урале, позиционирующих этот район не как традиционную границу между Европейской Россией и Сибирью, Европейской и Азиатской Россией, но как настоящий, истинный, новый центр России и российской цивилизации. Подобное позиционирование как раз может быть специфической уральской геоидеологией, скрепляющей все уровни достаточно хорошо сложившихся пространственных представлений об Урале. В таком случае пространственные представления Урала и об Урале становятся словно тыловой базой, прочным ментальным фундаментом развития метагеографии Зауралья. На наш взгляд, мощные локальные мифологии Урала достаточно хорошо сформировались уже к середине XX в., продолжая успешно развиваться и в начале XXI в., тогда как классические культурные ландшафты Урала эпохи раннего и зрелого модерна приобрели свои образцовые очертания не позже конца XIX – начала XX вв. 49 49 Замятин Д.Н. Локальные мифы…; Замятин Д.Н. Геократия… См. также: Капкан М.В. Уральские города-заводы: мифологические конструкты // Изв. Уральского гос. ун-та. 2006. № 47. Гуманитарные науки. Вып. 12. Культурология. С. 36-45.
. В то же время можно говорить о достаточно длительной, практически не прерывавшейся и устойчивой традиции становления географических образов Урала начиная с античности 50 50 Архипова Н.П., Ястребов Е.В. Как были открыты Уральские горы. Очерки по истории открытия и изучения природы Урала. Изд. 3-е, перераб. Свердловск, 1990; Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV – XVIII вв.: Коллектив. монография / Отв. ред. Е.К. Созина. Екатеринбург, 2006 (особенно содержательно важны написанный К.В. Анисимовым раздел 1 «Урал глазами путешественников: мифопоэтика, идеология, этнография», и раздел 2, «Духовная “ оседлость” Урала в памятниках словесности», авторы которого – В.В. Блажес и Л.С. Соболева); Образ Урала в документах и литературных произведениях (от древности до конца XIX века) / Сост. Е.П. Пирогова. Екатеринбург, 2007; Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е.П. Алексеев. Екатеринбург, 2008.
. Ряд довольно ярких репрезентаций уральской идентичности культурного, экономического и политического характера можно было наблюдать начиная уже со второй половины XIX в.; уральское областничество проявило себя как во время гражданской войны 1918-1921 гг., так и при распаде Советского Союза 51 51 Характерен в этой связи выход с августа 1991 г. журнала «Уральский областник», начавшего в первом номере любительские публикации документов Временного Областного Правительства Урала 1918 г. (с. 55-76); более подробно: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI-XX веков. М., 2004. С. 448-489.
. Наконец, в начале XXI в. для Урала были характерны интеллектуально-художественные, геомифологические и геоисториософские попытки осмыслить этот район – в различных дискурсивных традициях (сниженный постмодернизм, псевдоисторическое фэнтези, собственно примордиализм и традиционализм, сакральная география в ее паранаучной версии и т.д.) – как ядерное пространство, определяющее перспективы исторического развития гораздо более крупных территорий – России, Северной Евразии, Евразии в целом 52. Такая когнитивная ситуация, сама по себе, вне зависимости от оценки качества различных попыток обобщенно представить метагеографию Урала, несомненно, является симптомом готовности этого района быть одним из ключевых элементов проспективной и перспективной метагеографии России.
В известной мере Урал может рассматриваться как автономный «психологический комплекс» русской культуры. С одной стороны, «навязчивый» образ Урала может периодически возникать в различного рода дискурсах – политических, культурных, художественных, экономических – о будущем и судьбах России. Характерный и крайне интересный пример подобного «иррационального» появления образа Урала – стихотворение А. Блока «Скифы», в котором общее поэтическое развитие темы «внезапно» нарушается вторжением в целом не подготовленного предыдущим «текстовым потоком» мощного уральского мотива («Идите все, идите на Урал…» и т.д.) 53. С другой стороны, образ Урала может позиционироваться в рамках русской культуры как постоянно подавляемый, «принижаемый», преуменьшаемый – он, видимо, достаточно важен, но не настолько, чтобы считать его вполне открыто первостепенным; это, пожалуй, культурный мотив некоторого психологического «стеснения», отодвигания, пренебрежения (ср. современные народные идиомы и поговорки: «Ты что – с Урала?», «Одет, как с Урала» и т.п.). На наш взгляд, подобная культурно-психологическая ситуация способствует пониманию географического образа Урала как фундаментального для дальнейшего развития географических образов Зауралья и метагеографии Зауралья – вне зависимости от того, будет ли далее этот психокультурный комплекс устойчиво воспроизводиться или же постепенно исчезнет и будет заменен каким-то другим.
Как может быть осуществлен эффективный когнитивный переход от, по преимуществу, интровертивных географических образов Сибири к более широким экстравертно-интровертным географическим образам Зауралья? Здесь, по всей видимости, нужен какой-либо ключевой локальный текст и/или гений места, объединяющий и связывающий эти образно-географические системы и пространственные представления в целом. В качестве такого локального текста или, скорее, совокупности локальных текстов можно рассматривать летописные и фольклорные тексты о Ермаке 54. Ермак выступает героем крупного локального мифа, объединяющего непосредственно Предуралье, сам Урал, Зауралье (в основном Западную Сибирь). Характерно, что этот популярный локальный миф имеет множество конкретных ландшафтных репрезентаций (конкретные памятные места, в том числе, очевидно, большинство тех, где он никогда бывать не мог), является основой для становления, по крайней мере, нескольких региональных идентичностей (предуральской/прикамской/пермской, собственно уральской, западно-сибирской); географические образы, лежащие в его фундаменте, содержательно выражают, пред-ставляют относительно свободные окраинные речные и приречные пространства, служащие удобными путями для быстрого передвижения и в то же время местами непрекращающихся разбоев и пограничных стычек. Ермака можно назвать даже не гением места (поскольку различные версии ермаковского мифа указывают на множество мест его остановок, разбоев, битв, гибели и т.д.), а, возможно, гением пространства, гением переходного урало-сибирского пространства, причем в образах этого пространства присутствуют и остаточные образы казачьих рек и традиционных казачьих территорий (Волга, Дон, Яик, Терек, Донская область, Северный Кавказ), ибо народные легенды, рассматриваемые как целостная дискурсивная система, пытаются привязать рождение и происхождение атамана к возможно большему вероятному мифологическому ареалу. Важно отметить, что ермаковский миф можно классифицировать даже не просто как локальный (хотя бы и с широким ареалом распространения), а как именно транслокальный миф, как бы перетекающий из района в район с соответствующими образно-содержательными модификациями и выходящий в целом, очевидно, на уровень общенационального мифа, имеющего явные региональные привязки и репрезентации. Принципиальная пространственная переходность этого мифа подчеркивается также сочетанием и взаимодействием нескольких национально-мифологических традиций – русской, татарской, частично и мансийской. Несмотря на то, что ермаковский миф воспроизводится в настоящее время уже в основном не с помощью устной передачи (в устной традиции он практически угасает), а с помощью более современных средств культурной коммуникации и репрезентации, он остается, на наш взгляд, одним из главных содержательных источников структурирования и оформления метагеографии Зауралья.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: