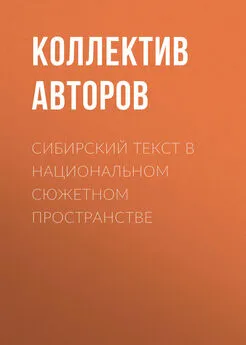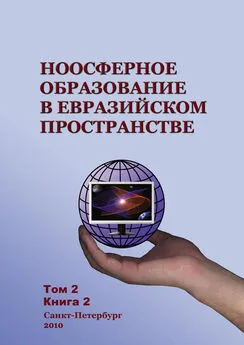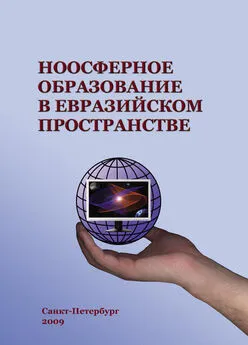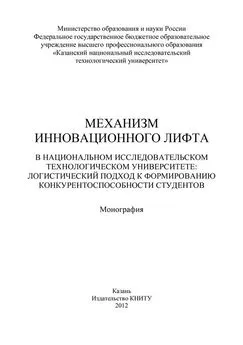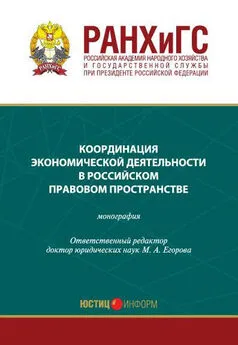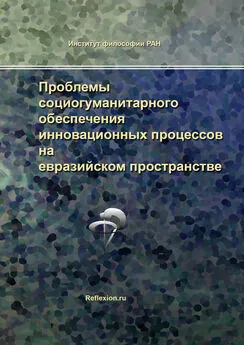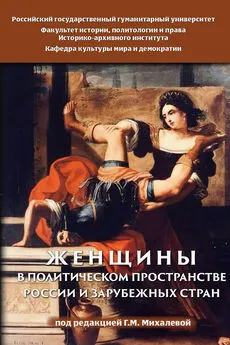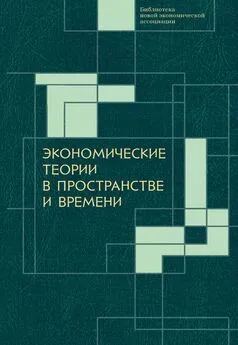Коллектив авторов - Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
- Название:Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7638-1923-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве краткое содержание
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Образно-географическое поле Урала – Зауралья – Сибири словно прошивается, пронизывается ориентированными с запада на восток – юго-восток пространственными представлениями, развиваемыми на базе мифа о Ермаке. Важно при этом, что данный миф, по сути, история событий, связанных с движением по пограничным рекам: Волге, Каме, Чусовой, Серебрянке, Иртышу и т.д. Уральские владения Строгановых на пути Ермака в Сибирь становятся своего рода «ситом» или мембраной, пропускающей казаков в Зауралье. Фактически в этой истории Урал не воображается как горы по преимуществу, хотя в легендах о Ермаке есть и пещеры чусовского камня, и шиханы, и клады в пещерах (подобное типично и для чисто «речных» народных мифов, например, волжский миф о Стеньке Разине). Урал в ермаковском мифе воображается, скорее, как более-менее равнинно-холмистое речное пространство, ведущее казачью дружину в Сибирь; он не видится здесь суровым Камнем, препятствующим походу на восток. Подобная иллюзия, возникающая при непосредственном восприятии легенды о Ермаке, возможно, не случайна и связана с позднейшими текстовыми наслоениями и вариациями, обеспечивающими обратный ход географических образов. Другими словами, равнинный, плоский рельеф Западно-Сибирской низменности мог «выровнять» и ландшафтные репрезентации различных местных вариантов мифа, складывавшиеся post factum, гораздо позднее событий конца XVI в. в условиях постепенного масштабного осознания важности финальных событий конкретной истории (борьбы с Кучумом, гибели Ер-мака), происходивших уже в Зауралье. Так или иначе, предполагаемая нами образно-географическая аберрация в связке Урал – Зауралье – Сибирь позволяет «срастить» эти пространства, представить их архетипом-первообразом единого «равнинно-плоскостного» потока российской метагеографии, двигающейся и расширяющейся на восток и юго-восток.
Для более полного, целостного понимания содержательного образно-географического перехода Сибирь – Зауралье можно использовать концепты шара и стрелы. Географический, или историко-географический, образ Сибири формировался в течение нескольких столетий как шар или сфера – иначе говоря, большинство знаков, символов, архетипов и стереотипов, связанных с этим образом и связываемых данным образом в единую систему, удобнее представлять как постоянно закругляющуюся бесконечную поверхность, ориентированную в любой её точке на самоё себя 55. Здесь мы можем уверенно говорить даже о типе метагеографического образа-шара или сферы, формирующей, как правило, соответствующую конкретную топографию и топологию фрактальных и фрактализующихся мест – эти места в рамках своего самоподобия стремятся к тотальной внутренней пространственности, порождающей геоонтологии стоящего, застаивающегося, расшатавшегося, «вывихнутого», постоянно «распадающегося» времени (ср. в «Гамлете»: “The time is out of joint” и метафизическое продолжение этой темы в поэзии Мандельштама 1920-х гг. с «выходом» в Сибирь, «жаркую шубу сибирских степей»).
В свою очередь, метагеографический образ Зауралья можно рассматривать как стрелу, пронизывающую, протыкающую «дымящийся шар» Сибири и словно заставляющую его превращаться, трансформироваться в ряд самовоспроизводящихся спиралей, создающих одновременно пространственный эффект ретроспективы и перспективы, «геограмму» всех возможных локальных мифов и текстов, культурных ландшафтов, становящихся уже уникальными представлениями закрепляющихся тем самым мест. Метагеографический образ-стрела, по всей видимости, может выступать как тип упорядоченных и в то же время расходящихся временн ы х последовательностей, постоянно координируемых и соотносимых в рамках всё новых и новых опытов пространственности.
Эти новые возможные опыты пространственности должны опираться всякий раз на метагеографическое понимание Зауралья как расширяющегося образа. В таком случае нужен предварительный метагеографический анализ приставки «за-» и, собственно, дефиса, расчленяющего и разделяющего в какой-то момент пространство Урала и то, что за ним следует.
Приставка «за-» в образе Зауралья полагает собой возможность некоего «-уралья» – приуралья, поуралья, подуралья, надуралья и т.д. Мы пишем эти слова со строчной буквы, поскольку сам образ лишь предполагает такие потенциальные пространства, которые не обязательно могут быть и должны быть представлены и репрезентированы. В то же время приставка «за-» акцентирует наше внимание на возможности заглянуть, засмотреться, задуматься, замыслить что-то, что является неким ментальным или онтологическим продолжением Урала, однако сам «Урал» остается на месте – он не передает энергетику своего пространства непосредственно, но создает лучи, районы пространственностей посредством внедрения и повторения данной приставки. В свою очередь, Зауралье или даже Зауралья оказываются возможными в силу онтологического отодвигания самого Урала, своего рода его переворачивания и выворачивания. Урал в непосредственно данной географии кажется продвигающимся на восток, северо-восток и юго-восток, и в то же время метагеографически он оттесняется на запад, становясь все более и более европейским, или же российским. Такой подход учитывает и то обстоятельство, что для жителей традиционной Сибири или Дальнего Востока Зауральем являются собственно те районы, которые находятся к западу от Урала, европейская часть России, Восточная Европа и т.д. Мы можем сказать, что метагеографическое понимание Зауралья оказывается серией расходящихся образов-опытов пространственности, включающих как «объевропеивание» районов европейской части России, так и «овосточнивание» регионов Сибири и Дальнего Востока. Приставка «за-» в образе Зауралья является обоюдоострой – как в смысле непосредственного расширения районов и зон новых опытов пространственности, так и в смысле опосредованного перехода к новым районам человеческого бытия.
Между тем, возникающий в подобном метагеографическом анализе дефис между «за» и «уральем» говорит нам, что в этом онтологическом зазоре возможно появление «уральскости», т.е. таких ландшафтных и локально-мифологических представлений, которые являют Урал как точно определенное место вне его непосредственных географических координат. Уральскость может рассматриваться как пространственная идентичность, обусловленная расширением онтологического зазора между собственно Уралом и Зауральем. Именно обнаружение и фиксация уральскости позволят твердо говорить и рассуждать о становлении Зауралья как устойчивого бытия-существования новых опытов пространственности – точно так же, как европейскость можно рассматривать в качестве «гаранта» онтологического существования самой России, подобно метагеографическому «Заевропью». В таком случае и Сибирь, попадающая в прочный и надёжный «кокон» зауральских метагеографических образов, может оказаться достаточно автономным и бытийно устойчивым образом-опытом пространственности. Здесь, тем не менее, мы пока не можем говорить об онтологической возможности «Засибирья», поскольку метагеография Сибири еще не явлена как целостное развернутое дискурсивное поле поддерживающего само себя воображения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: