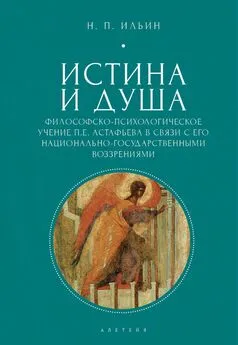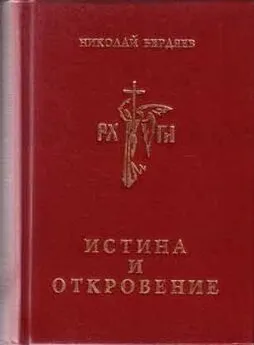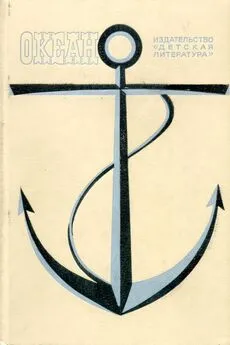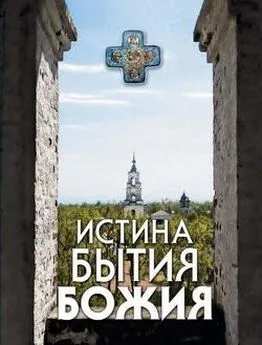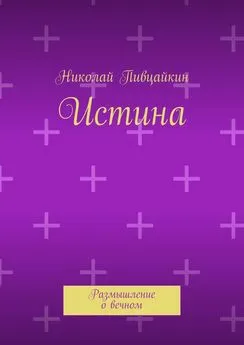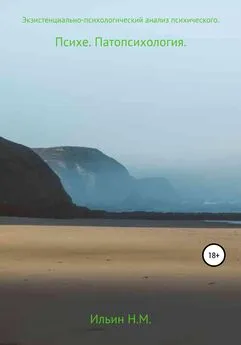Николай Ильин - Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями
- Название:Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-42-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Ильин - Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями краткое содержание
Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем, нельзя не признать, что по существу Астафьев прав: христианство хотя и не провозгласило «любовь к человечеству», но открыло двери для будущего призыва к такой любви. Мне уже приходилось говорить о том, с каким трепетом относились к идее «человечества» ранние славянофилы; с трепетом, никак не меньшим, чем «западники», к тому же с трепетом отчетливо религиозным [7: 49–77]. Поэтому не удивительно, что Астафьев, которого, как мы еще убедимся, связывали со славянофилами многочисленные нити, стремился понять, при каком условии идея «любви к человечеству» (глубоко чуждая его представлениям о подлинной любви), все-таки получает определенный – пусть и условный – смысл. Этот смысл заключается, по Астафьеву, в следующем. Еще раз подчеркнув, что «любовь к человечеству» сама по себе лишена смысла, ибо не имеет никакой естественной почвы в человеческом сердце, он пишет: «Если она и становится деятельным чувством любви, то не иначе как через любовь к Богу и в ней , – становится любовью лишь ради Христа , положившего себя за все человечество» [31: 84].
При этом Астафьев настаивает, что именно «в чувстве любви к Богу» соединены «в превосходнейшей степени» все рассмотренные ранее признаки истинной любви: и ярчайшая индивидуализация, конкретность чувства, испытываемого к личному Богу , и « идеализация предмета чувства как Высочайшего Единственного», и крайняя степень неравенства между любящим и Любимым, но в то же время и напряженное «стремление к наиболее беззаветному, полному и всестороннему общению с недосягаемым Предметом любви». Присутствует здесь, само собой разумеется, и исключительность любви, но исключительность, которая не вступает «в противоречие со всеобщностью нравственного закона », ибо самый Предмет любви, «будучи единственным, всё под собою объемлет» [31: 83].
Очевидно, что это последнее утверждение имеет особое значение для обоснования того высшего нравственного значения , которое принадлежит любви к Богу несмотря на то, что в ней достигается высшая степень исключительности. Приходится признать, что в этом ключевом пункте Астафьев весьма немногословен. Он фактически ограничивается одним примером, говоря о молитве в храме; молитве, которая всецело обращена к Богу и в то же время является «определенною формою общения » между молящимися.
Так или иначе, Астафьев считает выполненной свою задачу: показать, что « положительная мораль возможна лишь через положительную религию , – не иначе», и заодно раскрыть «внутренне необходимую зависимость любви к человечеству от религиозной любви к Богу» [31: 84]. На мой взгляд, эти задачи оказались решенными у Астафьева далеко не достаточным и не слишком убедительным образом. Более того, «религиозная» концовка его работы выглядит каким-то искусственным «довеском» к тем результатам, которые он действительно сумел обосновать и ясно выразить.
Это, прежде всего, четкое разграничение юридических и нравственных требований, которого так не хватало славянофилам. В отличие от первых, вторые не могут предъявляться в одностороннем порядке, а требуют взаимопонимания , обоюдного признания определенных нравственных норм как теми, кто произносит нравственный суд, так и теми, над кем этот суд произносится. Если продумать этот принцип нравственной взаимности до конца, то станет понятно: моральное право судить о других имеет лишь тот, для кого стала нормой жизни постоянная и нелицеприятная нравственная самооценка .
Далее, в рассмотренном сейчас труде Астафьева он впервые твердо подчеркивает идею конкретного индивидуального субъекта как ключевую идею психологии– и тем самым неразрывно связывает психологию с философией. При этом проясняется архитектоника души , в которой чувству открывается самая сущность субъекта, интеллект направлен на познание объекта , а воля обладает двоякой субъективно-объективной направленностью, связанной с коренным стремлением субъекта к объективному самовыражению .
Наконец, Астафьев набрасывает яркими красками образ любви , в которой человек стремится не получить , но отдать , одарить другого; любви, которая не распыляется между многими, а всецело сосредотачивается на одном . Мне думается, что, среди массы размышлений о любви в русской философии, эссе Астафьева является, по сути, единственным , в котором любовь предстает как чувство sui generis , кардинально отличное от дружбы, сострадания, привязанности и всего остального, что мы так часто путаем с любовью как высшим самовыражением человеческой личности. Но не выходит ли любовь в силу этого за пределы нравственности ? Хотя бы в том смысле, в каком основание выходит за пределы того, что оно обосновывает ?
Астафьев об этом не говорит, но он фактически подводит читателя к этой мысли.
В заключение этой главы позволю себе краткий экскурс в русскую поэзию, которая, как и любая поэзия, была в первую очередь «поэзией любви». У Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение, которое вспоминается мне чаще других стихотворений этого замечательного поэта. Приведу его полностью как пример, подкрепляющий ключевые мысли Астафьева о любви, хотя фактически в форме спора с этими мыслями. Вот это стихотворение:
Ты клонишь лик, о нем упоминая,
И до чела твоя восходит кровь –
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нем лишь первую любовь;
Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой привлечь тебя он мог –
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог.
То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Всё, что к нему случайно подойдет.
Поэт пишет о первой любви именно то, что Астафьев говорит о подлинной любви . По мнению А. К. Толстого она – лишь предлог для « тайных дум , мучений и блаженства » – но это и значит, что в ней происходит «уяснение себя как личности», уяснение самое болезненное, но, возможно, и самое глубокое именно в любви. А. К. Толстой отмечает, что она, эта «первая любовь», приписывает своему предмету совершенства, которыми он не обладает , – но это и значит, что она его идеализирует . Наконец, для поэта она – « лишь обман неопытного взора »; но тут же он видит в ней « жизни луч », бьющий из самого сердца и золотящий (то есть снова идеализирующий) то, на что он случайно падает.
Но эти последние, самые чудесные строки содержат и существенную неточность. Первая (и подлинная) любовь никогда не ласкает всех подряд , а напротив, она, как луч, сосредоточена на ком-то одном – то есть, по Астафьеву, исключительна . Просто вблизи настоящей любви становится светлее и теплее даже тем, кому ее свет и тепло не предназначены . Самая же главная ошибка поэта: призыв « Не верь себе !». Напротив, только в такую любовь и имеет смысл верить безоглядно – ибо она никогда не изменит, если не изменит себе самой .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: