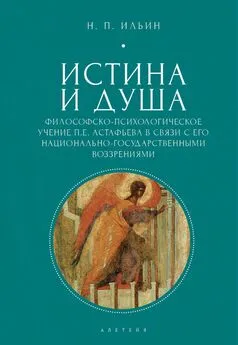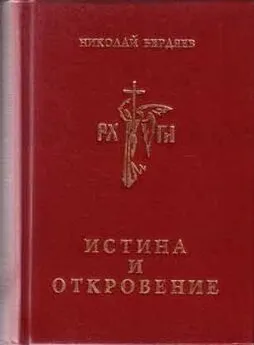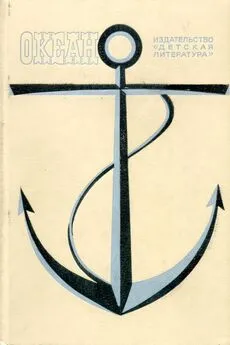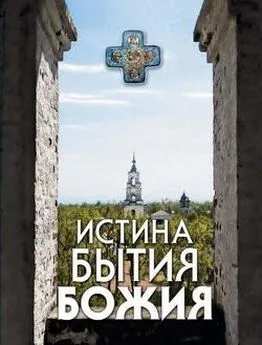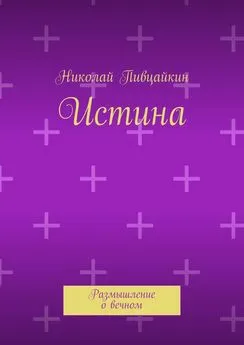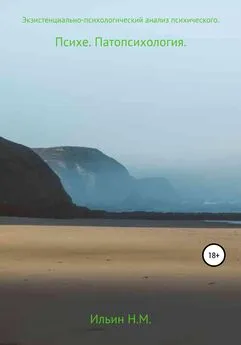Николай Ильин - Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями
- Название:Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-42-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Ильин - Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями краткое содержание
Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, что значат эти ошибки, если красота стихотворения выговаривает истину вопреки «головным» убеждениям поэта, а точнее, ревнивого наблюдателя первой любви!
Глава 7.
Данное мне и поставленное мно ю . Свобода как самомотивация
Вопрос о свободе воли – естественный вопрос для мыслителя, в трудах которого деятельная воля рассматривается как важнейший элемент душевной жизни. Поэтому еще в середине 1870-х годов Астафьевым был написан обширный «Опыт о свободе воли», который его автор счел, повидимому, недостаточно зрелым или законченным для публикации [40]. Мысли, высказанные в «Опыте», получили дальнейшее развитие в эссе «К вопросу о свободе воли» (1889), на котором мы сосредоточим основное внимание. В этой работе Астафьев уже ясно сознаёт, что «взгляд того или другого философа на свободу воли может служить характеристикой всей его системы и пробным камнем ее важнейших достоинств и недостатков» [41: 271].
Возможно, именно по этой причине судьба вопроса о свободе воли в истории философии, как считает Астафьев, была непростою и «особенно поучительною». Как специальный вопрос он был выделен «из общего метафизического вопроса об основах бытия и действия вообще» только в Средние века. Но при этом «отцы Церкви и моралисты» руководствовались «главным образом нравственно-религиозным интересом» и постепенно отделили вопрос о свободе воли «от его метафизических и психологических корней» [41: 272]. По мнению Астафьева, такое подчинение данного вопроса исключительно религиозно-этическим мотивам и «передача его в специальное ведение богословов, моралистов и даже (как это ни странно!) юристов – не привели ни к чему, кроме почти безнадежной запутанности, произвола и широчайшего простора всяческой софистике» [41: 278]. В качестве примера он приводит тот тупик, в который заводит попытка решить этот вопрос на почве нравственно-юридической, как вопрос об ответственности человека за свои поступки. Сторонники свободы воли утверждают, что эта свобода необходима «для самого бытия нравственности», поскольку было бы бессмысленно одобрять или осуждать человека за поступки, которые он совершил не свободно, а вынужденно, в силу непреодолимого влияния тех или иных внешних или внутренних причин. Однако их оппоненты заявляют, в свою очередь, что из действительно свободной, не определенной никакими мотивами воли могут вытекать лишь поступки, которые «были бы чистым капризом», носили бы по существу случайный характер, так что и в этом случае нелепо говорить о какой-либо ответственности человека.
Разрыв прямой, непосредственной связи вопроса о свободе воли с философией привел, по мнению Астафьева, к изъятию из области философских, спекулятивно-метафизических идей идеи воли как деятельной, творческой силы, как силы самоопределения , открытой нам во внутреннем, субъективном опыте. В результате философия переместила свое внимание на мир объектов , где прямо и непосредственно нам дана не сила, а только движение как « смена объективно-определенных состояний ». В этой смене начинают искать некий постоянный фактор и находят его в виде закона причинной связи , который «сводит всякую последующую совокупность состояний на предшествующую, показывая в первой – лишь продолжение или преобразование второй» [41: 274]. Впоследствии закон причинной связи принимает уже не собственно метафизическую, но «чисто научную» форму закона сохранения энергии , не терпящего «никакого исключения в том мире, из которого устранено начало деятельной силы, замененное сохраняющимся неизменно движением», в мире, где всё сущее «есть действие вне его лежащей причины» [41: 274–275].
В связи с приведенными рассуждениями Астафьева уместно подчеркнуть два момента. Во-первых, они содержат, по сути дела, краткий набросок генезиса механистического мировоззрения . Несмотря на предельную лаконичность, этот набросок следует признать достаточно точным. А глубоко оригинальная черта этого наброска состоит, несомненно, в том, что Астафьев связывает торжество механицизма с отсутствием адекватного представления о свободе человеческой воли . Во-вторых, нельзя не отметить изменение взглядов Астафьева на область применения закона сохранения энергии. Если в работах «Психический мир женщины» и «Понятие психического ритма» он не просто допускал применение этого закона в области душевных явлений, но даже видел в нем ключ к пониманию этих явлений, то теперь Астафьев относит его исключительно к миру объектов, то есть и в этом отношении освобождается от пут позитивизма.
Отрывом вопроса о свободе воли от «родной метафизической почвы» объясняет Астафьев и взгляды, согласно которым этот вопрос «для научной мысли навсегда неразрешим», а положительный ответ на него может рассматриваться лишь как «верование сердца» или «нравственный постулат». Такова позиция Г. Лотце и «одного из глубочайших русских мыслителей Ю. Ф. Самарина» [41: 281]. Астафьев считает, однако, что «твердо верить в свободу воли в своей живой нравственной деятельности», но отрицать ее в своем теоретическом мировоззрении – «исход слишком болезненный, отчаянный даже для нашего глубоко больного современного человечества» [41: 281–282]. Подлинное решение вопроса о свободе воли возможно лишь в системе целого метафизического мировоззрения.
Но существует и важная пропедевтическая задача: «попытаться распутать веками запутанный клубок недоумений и ошибок, представляющийся нам результатом истории вопроса о свободе воли». Это позволит если не правильно решить, то, по крайней мере, правильно поставить данный вопрос. И начать следует с того колоссального , по словам Астафьева, недоразумения, которое заключено «в самом названии вопроса, в самом вопросе о свободе воли , как бы предполагающем, что воля , если она есть , если мы ее раз допустили, может быть – или свободна, или несвободна». В действительности, отрицающие свободу « отрицают самую волю <���…> отрицают самого субъекта как деятеля» [41: 282]. Воля превращаетсяв«равнодействующую»мотивов,субъект— в « совокупность сменяющихся состояний». Суть же этой подмены состоит в том, что «данные внутреннего опыта, – воля как деятельная сила и субъект как деятель – в их своеобразии устранены, заменены данными внешнего опыта» [41: 284]. Как же совершался этот процесс «подмены и смешения понятий»?
Сознание свободы воли , отмечает Астафьев, является «прежде всего фактом личного сознания», существующим «в форме ли непосредственного сознания, или смутного верования, или представления, или же логического понятия». Но хотя «нет ни одного философа, который бы отрицал этот факт», остается открытым вопрос «об истинности или неистинности верования в свободу воли, о ее действительности или иллюзорности» [41: 285–286]. При этом считалось вполне естественным решать этот вопрос, исходя из « более общих , чем предмет спора, понятий о законах природы, строе всего мира, законах развития духа человеческого, отношении человека к миру и его Творцу-Богу» и т.п. Таким образом, вопрос о свободе воли пытались решить «при помощи положений и законов, заимствованных, как видно, из области широчайшей », « области, объемлющей и мир бессознательного, и мир до— и сверхсознательного », фактически уходя при этом из «области личного сознания (внутреннего опыта), которая одна дает нам и представление о воле и верование в ее свободу. Таков конечный прием учений детерминизма и трансцендентальной свободы, завещанных нам историей вопроса» [41: 287–288]. Вместе с Астафьевым кратко остановимся на сути этих учений, до сих пор сохранивших свое влияние.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: