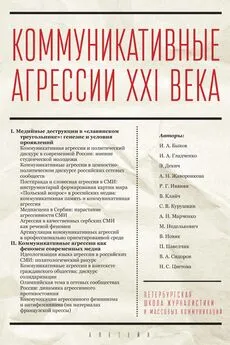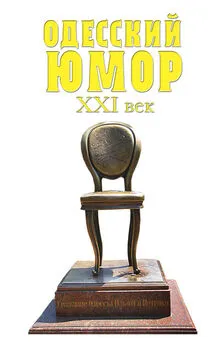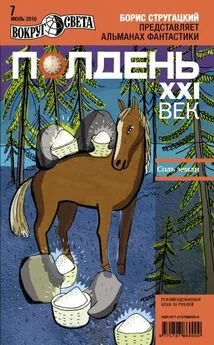Коллектив авторов - Коммуникативные агрессии XXI века
- Название:Коммуникативные агрессии XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-84-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Коммуникативные агрессии XXI века краткое содержание
Коммуникативные агрессии XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Bushman B. J., Anderson C. A. Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy? Psychological Review, 2001.
Coleman, G. Phreaks, Hackers, and Trolls: The Politics of Transgression and Spectacle. The Social Media Reader, 2012.
Collins A. M., Lof t us E. F. 1975. A spreading activation theory of semantic processing. Psychological Review, 1975.
Collins Dictionary (No Date) Troll | Definition, Meaning & More | Collins Dictionary. Available at: ht t p://www. collinsdictionary.com/dictionary/english/troll, accessed March 2, 2018.
Dahlberg, L. The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere. Information, Communication & Society, 2001.
Data t , B. Belling the Trolls: Free Expression, Online Abuse and Gender. Open Democracy. August 30, 2016.
Eveland, W. P., & Hively, M. H. Political discussion frequency, network size, and “heterogeneity” of discussion as predictors of political knowledge and participation. Journal of Communication, 2009.
Farrell T. Constructivist Security Studies: Portrait of a Research Program // International Studies Review. 2002. Т. 4. № 1. С. 49–72.
Hmielowski, Jay D., Hutchens Myiah J. & Cicchirillo, Vincent J. Living in an age of online incivility: examining the conditional indirect effects of online discussion on political fal ming. Information, Communication & Society. 2014, 17 (10).
Huesmann L. R. The role of social information processing and cognitive schema in the acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. See Geen & Donnerstein 1998.
Lindsay, M., & Krysik, J. Online harassment among college students. Information, Communication & Society. 2012, 15(5).
Mengü, M., Mengü S. Violence and Social Media. Athens Journal of Mass Media and Communications, 2015, 1 (3).
Phillips, W. This Is Why We Can’t Have Nice Things: Mapping the Relationship between Online Trolling and Mainstream Culture. Cambridge, MA: MIT Press, Information Society Series, 2015.
Roberto, A. J., & Eden, J. Cyberbullying: Aggressive communication in the digital age. In T. A. Avtgis, & A. S. Rancer (Eds.), Arguments, aggression, and conflict: New directions in theory and research (pp. 198–216). New York, NY: Routledge, 2010.
Tedeschi J. T, Felson R. B. Violence, Aggression, & Coercive Actions. Washington, DC: Am. Psychol. Assoc, 1994.
Wendt A. Constructing International Politics // International Security. 1995. Vol. 20. No. 1. P. 71–81.
Yanıkkaya, B. Gündelik hayatın suretinde: öteki korkusu, görsel şiddet ve medya [The representation of daily life: the fear of the others, visual violence and the media]. In B. Çoban (Ed.), Medya, Milliyetçilik, Şiddet [Media, Nationalism, Violence]. İstanbul: Su, 2009.
Zillmann D. Arousal and aggression. See Geen & Donnerstein 1983.
Глава 1.2.
Коммуникативные агрессии в ценностно-политическом дискурсе российских сетевых сообществ
Заводя разговор о политическом дискурсе современной России и роли СМИ в его поддержке, необходимо принять во внимание ценностный аспект рассмотрения темы. Сложная структура политического дискурса невозможна без идеологического насыщения функционирующих в его рамках коммуникаций, а это, в свою очередь, выводит нас на ценностный уровень, ведь идеология – это «система ценностей, которая легитимирует существующий в данном обществе порядок господства» 61 61 Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. – М., 2002. URL: ht t ps:// textbooks.studio/uchebnik-teoriya-politiki/politicheskie-ideologii-kak-sistemyi.html
. В то же время невозможно отметать коммуникационно-лингвистический уровень дискурса, на котором «нет иной объективности, кроме той, которая устанавливается в самых глубинах субъективного» 62 62 Бенвенист Э. Общая лингвистика / пер. с фр. – М., 1974. С. 14.
. Таким образом, мы выделяем два важных аспекта затрагиваемой проблемы, первый из которых связан с ценностной обусловленностью коммуникаций в политическом дискурсе, а второй – с речевыми практиками, с помощью которых эти коммуникации реализуются. Коммуникативные агрессии, в свою очередь, также реализуются на указанных уровнях: с одной стороны, они, как следует из термина, коммуникативные, то есть реализуются в речевых практиках, с другой – идеологические, следовательно, ценностно насыщенные. Так что сам термин «коммуникативные агрессии» подразумевает наличие двух уровней – «коммуникативного» и «идеологического», соединение которых рождает предмет нашего изучения.
Переходя к теме коммуникативных агрессий в политическом дискурсе, необходимо помнить, что «дискурсивное формирование общества вызвано отнюдь не свободной игрой в головах людей. Это следствие их социальной практики, которая глубоко укоренена и сориентирована на реальные, материальные социальные структуры» 63 63 Fairclough N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. – London, 2003. P. 37.
. Если рассматривать дискурсивные практики как речевые, насыщенные идеологически (именно через дискурс выражаются ментальности и политические идеологии 64 64 Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах // Thesis. Вып. 3. – М., 1993. С. 196.
), то коммуникативная агрессия в политическом дискурсе обусловлена идеологически. И причиной тому сама сложившаяся в современной российской медиасфере система двух противоборствующих дискурсов – сакрального и профанного 65 65 Более подробно см. главу настоящей монографии «Идеологизация языка агрессии в российских СМИ: политологический ракурс».
. Не вдаваясь в подробности, выделим лишь основные черты сакрального и профанного дискурсов: сакральный дискурс стремится к однозначности установленных в нем знаков, допускает приоритет веры над знанием, постоянно подтверждает себя как для социума в целом, так и для индивида в частности, тяготеет к консервативным ценностям; профанный дискурс горизонтален в структуре и проявлениях (допускает интерпретации и дискуссии), признает легитимным лишь легальное, тяготеет к либеральным ценностям.
Понимание ценностно-политического дискурса современной России как единства и борьбы внутри него сакрального и профанного восходит к теории постструктурализма, в которой дискурс рассматривается в качестве совокупности артикуляционных практик. Чем крупнее масштабы, тем более явственна гетерогенность этих практик; связи между ними в рамках одного дискурса не ослабевают, но появляются другие дискурсы со своими артикуляционными практиками. Чем ближе дискурсы друг к другу предметно, тем больше вероятность их борьбы между собой за монополию в интерпретации действительности. Необходимость установки монополии начинается там, где дискурсы сближаются друг с другом предметно и начинают бороться за установление согласия в его грамшианском понимании – как средства гегемонизации 66 66 Грамши А. Избр. произв. в 3-х тт. Том третий / пер. с ит. – М., 1959. С. 64.
. Напряженность и потенциально следующая за ней агрессия возникают там, где один и тот же элемент может быть означен по-разному в разных дискурсах. Тем самым вызывается диссонанс между несхожими образами.
Эти положения некоторым образом раскрываются в результатах опроса студентов Института «Высшая школы журналистики и массовых коммуникаций» и факультета политологии СПбГУ, проведенного в декабре 2017 г. Цель анкетирования, как уже сказано в предыдущей главе, – выявить представления учащихся о наличии / степени агрессивности российских СМИ, включая сетевые ресурсы медиа, на примере освещения взаимоотношений России и Польши, определить меру осведомленности молодых людей об истории и культуре Польши. Репрезентативность анкетирования подтверждается, в частности тем, что будущие политологи и журналисты через определенное время могут быть вовлечены в специфические профессиональные сферы. Участие в них подразумевает активное приобщение к политическому дискурсу в составе коммуникативных элит, имеющих доступ к социально значимой информации и каналам ее распространения. Конечно, сегодня вряд ли со всей определенностью допустимо причислять участников опроса к коммуникативным элитам, однако через некоторое время некоторая их часть будет не просто генерировать политические коммуникации, но и определять направления их развития и распространения. Поэтому, делая выводы на основании интерпретации мнений сегодняшних студентов, мы в то же самое время прогнозируем мнения будущих элит, которым предстоит оказывать влияние как на развитие отношений России с другими странами (в том числе и с Польшей), так и на внутренние политические коммуникации: распространение идеологий, ценностное содержание политической информации и, конечно, на агрессивность сообщений. Опрос был вызван потребностью обозначить само присутствие коммуникативных агрессий в российском политическом дискурсе (в частности, с противопоставлением «сакрального» и «профанного»), выделить каналы языка агрессий, медийные эффекты, способствующие распространению агрессий в политических коммуникациях. Так, 57,75% студентов считают, что коммуникативная агрессия проявляется прежде всего в Интернет-СМИ, а 35,5% назвали телевидение и радио в качестве наиболее благоприятной площадки для распространения агрессивной риторики. Получается, что на возможность возникновения коммуникативных агрессий влияет канал передачи информации? Результаты опроса показывают, что подобное исключить нельзя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: