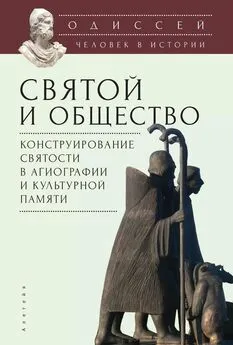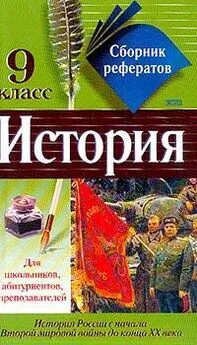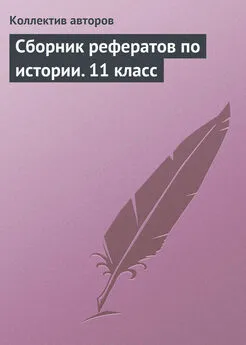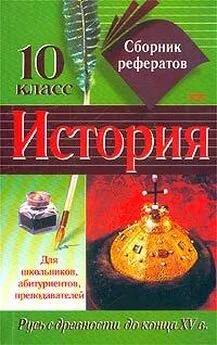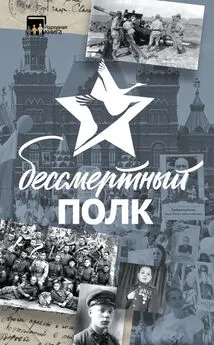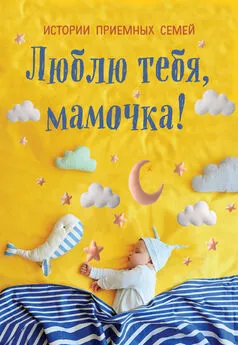Коллектив авторов - Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти
- Название:Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907115-85-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти краткое содержание
Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как известно, почти три столетия спустя ахенский синод 816 г., задавшись целью упорядочить жизнь религиозных общин на всей территории франкской империи, принимает устав для канонисс – Institutio sanctimonialium , за образец для которого было взято Regula ad virgines , но его предписания были в значительной мере смягчены. От текста Цезария, по большому счету, остались лишь риторика и структура, т.е. совокупность подвергаемых нормированию сфер жизни. Это общее мнение историков. Однако вопрос, почему участники синода остановили свой выбор именно на правиле Цезария, к тому времени уже, похоже, не использовавшемся и далеком от современных им реалий монашеской жизни, в историографии никогда не ставился, хотя ответ на него, как представляется, позволяет по-новому взглянуть на проблему исторических корней формирования нормы жизни канонисс. Моя гипотеза состоит в том, что для «образца» потребовалось отнюдь не правило как таковое, т.е. практические предписания Цезария, которые пришлось сознательно «смягчать», а та идея, которую сформулированные им уставные нормы обосновывали. Это идея самой возможности существования женской духовной общины, сакральной по определению, гарантирующей спасение, от членов которой, в отличие от монашества (в IX в. – бенедиктинского), напряженной внутренней аскезы не требуется. Эта идея «святой общины» – правда, лишенная своего нормативного обоснования, а потому абсолютно выхолощенная – была использована для легитимации совершенно иного, весьма далекого от идеалов Цезария уклада жизни, к тому времени уже сложившегося во многих нерегулярных женских общинах. Авторы Institutio ограничились лишь тем, что придали существующей практике некоторое единообразие и официальную форму нормативного предписания. Как этот уклад формировался и превращался в своего рода негласную норму, мы рассмотрим далее на примере из жизни другого монастыря, Св. Креста в Пуатье, в свое время принявшего Regula ad virgines Цезария Арльского. Попутно мы будем наблюдать, что происходит с «писаной нормой» – «идеалом» – при ее соприкосновении с меняющейся «действительностью», а также реакцию современников на эти процессы.
«Скандал в Пуатье»: конфликт «нормы» и «действительности» или ростки новой нормы?
В середине VI столетия франкская королева Радегунда (520– 587) основывает в Пуатье монастырь под покровительством св. Илария Пиктавийского, который вскоре стал называться монастырем Св. Креста: в 568 г. Радегунда выхлопотала у византийского императора для него реликвию «первого ранга» – частицу Животворящего Креста Господня. Первой аббатисой стала наперсница Радегунды и ее духовная дочь Агнесса. Об этой обители подробно рассказывает Григорий Турский в ряде глав IX и X книг «Истории франков» 263 263 Grеgorii episcopi Turonensis. Libri historiarum X // MGH Scriptorum rerum Merovingicarum. Bd. I(1). Цит. по русскому изданию: Григорий Турский . История франков. (Пер. В.Д. Савуковой). М., 1987. В конце цитаты в скобках ставится номер книги и главы.
. В историографии его рассказ получил довольно двусмысленное название «скандал в Пуатье», потому что речь в нем идет о последовавшем вскоре после смерти королевы восстании монахинь 264 264 Здесь можно предполагать игру со смыслами: Григорий Турский озаглавил рассказ о событиях в Пуатье (IX 39; X 15) De scandalum monasterii Pectavensis . Латинское scandalum можно понимать и как «бурную ссору», и как реакцию на нее, т.е. «предмет возмущения», получивший широкую огласку (неприличный) инцидент.
, недовольных жизнью при новой аббатисе Левбовере, преемнице Агнессы. К данному сюжету, богатому описаниями повседневных реалий жизни женской духовной общины второй половины VI в., историки обращаются регулярно 265 265 См., напр.: Scheibelreiter G. Königstochter im Kloster: Radegund und der Nonnenaufstand von Poitiers (589) // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1979. Bd. 87(1). S. 1–37; Gillette G . Radegund’s Monastery of Poitiers: the Rule and its Observance // Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991 / Ed. E. A. Livingstone. Löwen, 1993. P. 381–387; Hartmann M . Reginae sumus. Merowingische Königstöchter und die Frauenklöster im 6. Jahrhundert // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 2005. Bd. 113. S. 1–19; Görsch K. Der Nonnenaufstand von Poitiers: Flächenbrandt oder apokalyptischer Zeichen? Zu den merowingischen Klosterfrauen in Gregors Zehn Büchern Geschichte // Concilium medii aevi. 2010. Bd. 13. S. 1–18.
, также и для того, чтобы проиллюстрировать свой тезис о том, как часто и существенно декларируемая уставом «норма» вступает в противоречие с «действительностью» 266 266 Schilp Th . Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften im Frühmittelalter. S. 50; Fö ßel A., Hettinger A. Klosterfrauen, Beginnen, Ketzerinnen. Religiöse Lebensformen von Frauen im Mittelalter. Idstein, 2000. S. 21; Gillette G . Radegund’s Monastery of Poitiers: the Rule and its Observance. Passim; Helvétius A. – L. L’organisation des monastères fèminins à l’époque mérovingienne. P. 158.
. Однако свидетельства Григория Турского заслуживают подробного анализа и по другой причине: в том, что он описывает еще как достойные упоминания в «Истории» скандальные «казусы», можно рассмотреть ростки новых явлений и процессов в религиозной жизни. Они формируются как реакция на происходящие изменения в жизни практической – в социальной и политической действительности франкского общества, а в последующий период, в VII и VIII столетиях, набирают силу. К тому же следует учитывать, что Григорий Турский повествует о современных ему событиях, в которых он порою и сам участвовал, а значит, его интерпретация содержит множество хорошо ли, плохо ли скрываемых субъективных оценок происходящего. Здесь можно поставить вопрос о возможности существования в среде галльского клира критического отношения к еще очень популярному правилу Цезария и иным сложившимся формам женской религиозности, даже об альтернативе им.
Итак, в 589 г. группа из примерно 40 девиц, предводительствуемых королевскими дочерями, кузинами Хродехильдой и Базиной, взламывает ворота и покидает монастырь: они идут «жаловаться королям» 267 267 В то время было два франкских короля – Гунтрамн и его племянник Хильдеберт II. Из дальнейшего рассказа можно заключить, что Хродехильда посетила сначала своего дядю Гунтрамна (город Пуатье находился на подвластной ему территории), а ее кузен Хильдеберт был вовлечен в конфликт несколько позже.
. По пути девицы попадают в Тур, и Григорий Турский, вынужденный принять в них участие, описывает всю коллизию – de scandalum monasterii Pectavensis .
«А в монастыре в Пуатье возникла ссора ( scandalum ), ибо душой Хродехильды, возгордившейся от того, что она дочь покойного короля Хариберта, овладел диавол. Кичась своим королевским происхождением, она заставила монахинь поклясться в том, что они, очернив аббатису Левбоверу и выгнав ее из монастыря, поставят ее самою во главе монастыря. И вот она вышла с сорока или более девами и со своей двоюродной сестрой Базиной, дочерью Хильперика, и сказала: „Я иду к своим родственникам-королям, чтобы рассказать им о нашем унизительном положении, ибо здесь нас унижают так, словно мы не дочери королей, а рожденные от ничтожных служанок“» (IX 39).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: