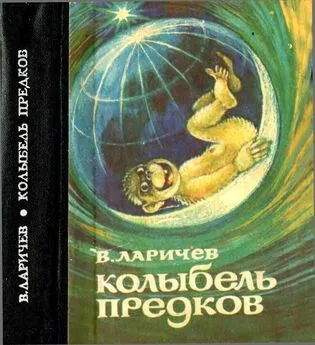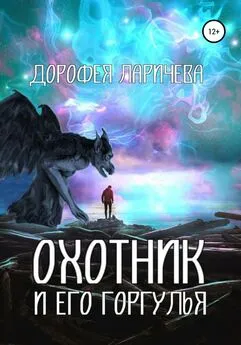Виталий Ларичев - Охотники за черепами
- Название:Охотники за черепами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Ларичев - Охотники за черепами краткое содержание
В наши дни мысль, что человек произошел от обезьяны, совершенно бесспорна и даже банальна. Однако цепь от «последней обезьяны» до первого человека протянуть не так-то просто. Хотя недостающих звеньев становится все меньше и меньше, разрывы еще порой довольно значительны.
И они не дают покоя исследователям. Один за другим открывают они центры зарождения человечества: в Европе и Сибири, на Яве и в Центральной Азии, Китае и Африке.
Рассказывая, как развивались поиски наших предков, автор старается показать «драму идей», действия которой вот уже более ста лет разворачиваются в разных уголках нашей планеты.
Охотники за черепами - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ради справедливости я должен отметить, что бедро обладает некоторыми примитивными особенностями. По его необычной прямизне, округлости диафизов особенно в нижней части, оно очень напоминает бедро гиббона. Поэтому, если уж так желательна идея совмещения всех костей, найденных в Триниле, я не вижу препятствий к утверждению о том, что бедро, как и черепная крышка, принадлежало гигантскому гиббону. Если бы это был человек, вы нашли бы вместе с его костями каменные орудия. Поскольку ничего подобного в вулканическом туфе не обнаружено, то в согласии со всеми правилами классификации тринильское существо следует считать животным, обезьяной, а не обезьяночеловеком. Питекантроп — выдумка, а не реальность!
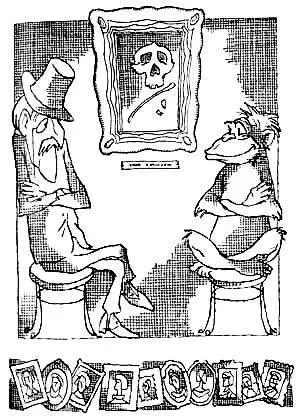
Дюбуа снова обратил внимание на огромный по сравнению с антропоидами объем мозга «тринильца», детали строения черепной крышки, которые напоминали череп человека. Ученый призвал на помощь авторитет Неринга и напомнил, что сужение черепной крышки около верхнего края глазниц наблюдается иногда даже у современного человека. Привел также мнение Марша о благополучном существовании в тропиках обезьян с такими же, как на бедре питекантропа, болезненными наростами на костях. Они жили, хотя и не получали медицинской помощи. Очевидное смешение особенностей, присущих человеку и обезьяне, дает право, утверждал Дюбуа, считать существо с Явы обезьяночеловеком, древнейшим предком людей.
Все напрасно: друзей не следовало убеждать, а противники, вроде Вирхова, откровенно скучали, потеряв интерес к предмету спора. Дюбуа ушел с заседания глубоко огорченный и расстроенный. Его идеи, такие, кажется, очевидные и ясные, не находили широкой поддержки, на которую он рассчитывал…
Два года ведет ученый ожесточенное, не на жизнь, а на смерть сражение за питекантропа. Достаточно большой срок, чтобы даже «закоренелым скептикам» уяснить существо его мыслей. Во всяком случае, ему самому без посторонних подсказок потребовалось меньше времени на то, чтобы понять значение открытия на берегах Бенгавана. Противники с досадой отмахиваются от доводов и упорно не желают признать обоснованность заключений о «недостающем звене». Конечно, Дюбуа не одинок. На его стороне такие выдающиеся антропологии как Густав Швальбе и Герман Клаач. Его по- прежнему страстно поддерживает Эрнст Геккель. Однако Дюбуа нужно всеобщее признание. Ведь все так очевидно и ясно!
Неожиданно наступает момент тяжелого кризиса, Дюбуа стал замкнут, подозрителен, недоверчив, в поведении появились трудно объяснимые странности. Питекантроп превратился в его рок. Как ревнивый отец ограждает он от «посторонних» свое детище. Только он должен иметь исключительное право на обладание бесценным сокровищем. Несогласных с его выводами Дюбуа теперь считает своими личными врагами.
С большой неохотой показывает кости питекантропа даже избранному кругу лиц. Все труднее удается убедить его показать уникальные находки какому-нибудь из ведущих специалистов по антропологии. Дело доходит до того, что для человека, в котором он видел коллегу, Дюбуа просто не было дома. Мысль потерять кости питекантропа из-за какой-нибудь нелепой случайности не давала Дюбуа покоя. Временами ему казалось, что он слышит звуки шагов ночных взломщиков, намеревающихся проникнуть в комнату, где хранятся черепная крышка, бедро и зубы обезьяночеловека, и выкрасть их. Ночами он чутко прислушивался к звукам, доносящимся с улицы.
Наконец измученный тревогами Дюбуа предпринял неожиданный для всех шаг: в 1897 году сдал кости питекантропа на хранение сначала в музей Тэйлора в своем родном Гаарлеме, а затем перевез в более безопасное и надежное место, в хранилище
Лейденского музея. Здесь они четверть века скрывались от глаз людей за сложными замками двойного металлического сейфа. После всех оскорблений и унижений «коллегами» Дюбуа потерял всякий интерес к обезьяночеловеку и связанным с ним проблемам. Попробуйте теперь убедить его в том, что он не прав.
Ученый мир удивлен, шокирован, возмущен, полон негодования, сыплет протестами, но Дюбуа неумолим. Ни один человек не имеет доступа к костям питекантропа, кем бы он ни был и кто бы ни ходатайствовал за него. Что это — каприз, причуда, месть, обида на несправедливость?
Трудно сказать, но факт остается фактом: Дюбуа внезапно прекратил борьбу за питекантропа и лишил возможности других продолжать ее. Даже Эрнст Геккель, «изобретатель и духовный отец обезьяночеловека», так никогда и не увидел кости питекантропа, открытие Которого предсказал: участвовать в работах Лейденского конгресса ему не довелось, а сейф музея Лейдена перед ним не распахнули. Когда Герман Клаач, который приложил много усилий для доказательства правоты Дюбуа, вернулся из путешествия на Яву, где он осматривал Тринил, и захотел увидеть черепную крышку питекантропа, то ему было отказано решительно и бесповоротно. Дюбуа не захотел встретиться с ним и поговорить. Клаач так и не увидел костей питекантропа: на Яве он заболел тропической малярией и вскоре после возвращения в Европу скончался.
Кое-кто попытался оказать давление на Дюбуа через правительство Нидерландов, но тщетно: министр просвещения Купер объявил, что описание материалов, связанных с яванским обезьяночеловеком, и костей ископаемых животных из Тринила осуществит в ближайшие три года сам Дюбуа. Но и через три года ничего не было опубликовано. Антропологам пришлось довольствоваться изданным до 1897 года.
Тем временем сотрудники Дюбуа продолжают раскопки на берегах Бенгавана. В Лейден один за другим поступают большие ящики, наполненные костями. Что это за кости и есть ли среди них новые останки питекантропа, для всех, в том числе и для Дюбуа, остается тайной: ящики складываются штабелями в подвальном хранилище музея. Кажется, нет на свете силы, которая могла бы заставить Дюбуа приняться за дело и взять в руки перо. Он может выехать на Яву и вновь копать в Триниле, но ему приятнее, очевидно, демонстрировать равнодушие. Более того, вскоре отдается распоряжение прекратить работы, и охотники за костями вымерших животных покидают долину реки Бенгаван,
Выведенные из себя упрямством Дюбуа исследователи принимают решение отправить на Яву большую экспедицию на поиски питекантропа. Организацию ее взял на себя Эмиль Зеленка, профессор зоологии Мюнхенского университета. Его хорошо знали в Голландии в течение шести лет, с 1868 по 1874 год, он преподавал зоологию в Лейденском университете, а в 1887–1889 совершил путешествие в Восточную Азию, в ходе которого посетил также Яву и Борнео. Зеленка занимался изучением антропоидных обезьян, но его волновала проблема происхождения человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
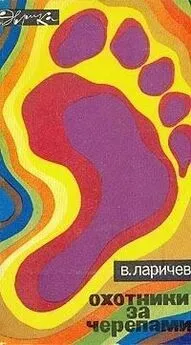

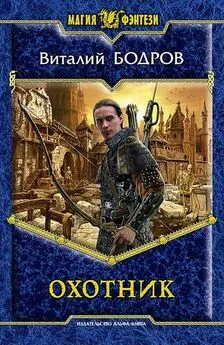

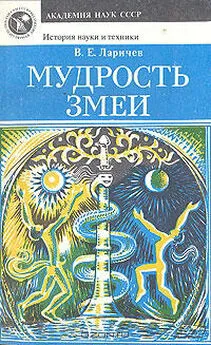
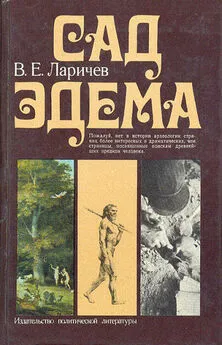
![Виталий Ларичев - Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди]](/books/1068442/vitalij-larichev-koleso-vremeni-solnce-luna-i-dre.webp)