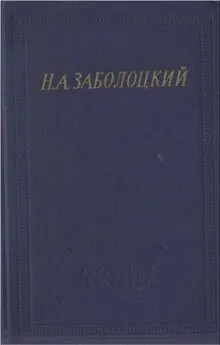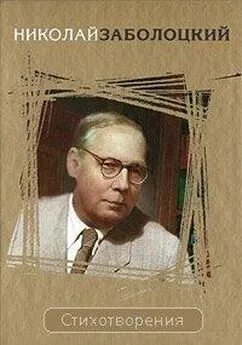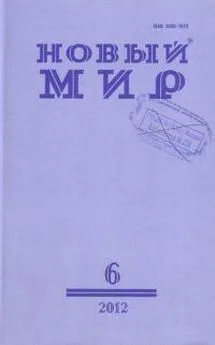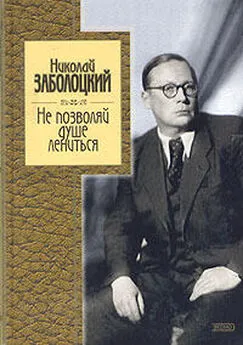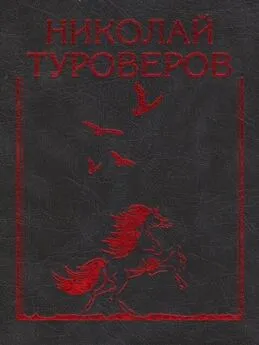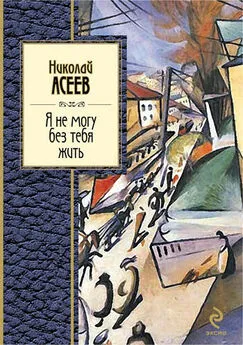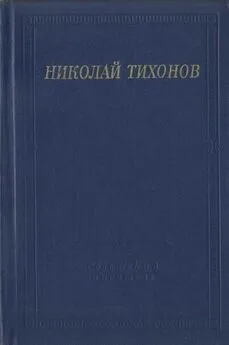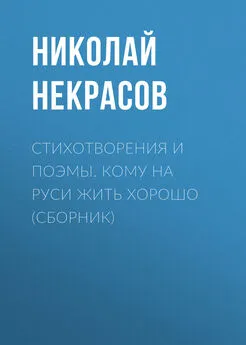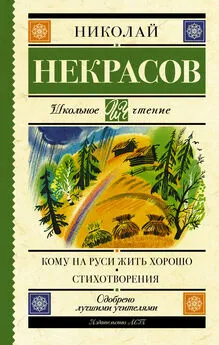Николай Заболоцкий - Стихотворения и поэмы
- Название:Стихотворения и поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1965
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Заболоцкий - Стихотворения и поэмы краткое содержание
Творчество Николая Алексеевича Заболоцкого сравнительно мало известно широкому кругу читателей. При жизни поэта вышло всего четыре сборника его оригинальных стихов, причем первая книга — «Столбцы» — давно стала библиографической редкостью и стихи этого периода больше никогда не печатались. Из ранних поэм Заболоцкого при жизни была опубликована только одна.
В настоящем издании творчество замечательного советского поэта представлено с большой полнотой. В книгу вошло все наиболее значительное из созданного Заболоцким, включая стихи из ранних сборников и избранные переводы.
Стихотворения и поэмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первый сборник Николая Заболоцкого «Столбцы» (1929) расценивается обычно как проявление растерянности поэта перед нэпом, перед мещанством, с одной стороны, и как результат увлечения формальными задачами, — учеба у Хлебникова, — с другой. Дальнейший путь Заболоцкого справедливо трактуется как отход от «Столбцов» и примыкающих к ним поэм («Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья») и обращение к традициям классической русской поэзии. В этой трактовке есть, однако, известная схематичность.
Зрелый Заболоцкий не мыслил себе сколько-нибудь полного издания своих стихов без ранних произведений, хотя многочисленные и часто весьма существенные изменения, внесенные в подготовленный им к печати в последние годы жизни текст «Столбцов» и поэмы «Торжество земледелия», говорят о том, что автор не остался глух к критике, которой подверглись эти произведения. Видимо, ранний период творчества имел в глазах зрелого Заболоцкого ценность, несмотря на то что поэзия его с годами претерпела весьма резкие изменения.
Странный, причудливый мир «Столбцов», «Торжества земледелия» и других произведений поэта 1926–1933 годов невозможно объяснить и истолковать, не учитывая сложности самого времени, когда эти стихи создавались. Этот период — один из самых сложных и решающих в истории нашей страны.
Стремительность, с какой поначалу совершалось триумфальное шествие Советской власти, быстрота, с которой тот, кто, по словам «Интернационала», «был ничем», почувствовал себя «всем», исторические дали, еще вчера казавшиеся почти недосягаемыми, но вдруг придвинувшиеся, — все это породило в некоторых восторженных умах преувеличенные представления о скорости, простоте и безграничных возможностях общественного развития. То обстоятельство, что революция в кратчайшие сроки отторгла у старого мира одну шестую планеты, объясняет «космические» масштабы, к которым тяготели поэты «Кузницы». Преображение Земли казалось делом ближайшего будущего. Фантазия далеко обгоняла действительность, стучалась в двери других миров. Революция — коренное преобразование — казалась универсальным, безотказным ключом ко всем проблемам мироздания. Потребовались немалые усилия В. И. Ленина, для того чтобы растолковать опасность «преувеличения революционности, забвения граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов». [15] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 44, стр. 223.
Нэповский быт обнаружил большую живучесть старого, чем это представлялось в годы наступления. Плакатная гидра капитализма показалась недавним мечтателям в своем будничном обличии, повсюду подымая тысячи новых голов и приводя кое-кого в отчаяние своим кажущимся бессмертием после тех ударов, которые были на нее обрушены. Долгое время наше литературоведение рассматривало все произведения тех лет, в которых звучала тревога за судьбу революционных завоеваний в условиях нэпа, как проявление паники перед новой сложной действительностью. Конечно, сетования некоторых авторов были попросту наивны, о чем говорил В. И. Ленин на XI съезде РКП (б). [16] Там же, т. 45, стр. 88.
Однако вряд ли можно распространять эту оценку на многие произведения, появившиеся позже, когда общественно-политическая обстановка существенно изменилась. Больше того, думается, что советская историческая наука, исследуя корни отрицательных явлений в жизни нашего общества, связанных с культом личности И. В. Сталина, сможет опереться и на некоторые свидетельства литературы двадцатых годов. Сложная обстановка того времени отражалась в литературе и искусстве в зависимости от мировоззрения, таланта и жизненного опыта художника; она сказывалась и в борьбе за те или иные художественные стили и формы. Последний вопрос пока еще мало изучен.
Несмотря на всю сложность вопроса, решение которого невозможно в рамках этой статьи, необходимо высказать несколько общих соображений о так называемом «левом» искусстве, существенных для понимания раннего творчества Заболоцкого. А. В. Луначарский писал, что «новейшие искания являются продуктами распада буржуазного мира, приведшего также к глубокому кризису сознание мелкой буржуазии», [17] А. В. Луначарский. О театре и драматургии, т. 1. М., 1959, стр. 222.
и действительно, в большинстве своем «левые» течения в искусстве возникли как своеобразное отражение социального пессимизма, бесперспективности. Жизнь трактовалась ими как трагический бесчеловечный кошмар, лишенный смысла и логики. Эстетике реализма противопоставлялась иная эстетика, ставящая под сомнение необходимость отражения мира в его непосредственно, чувственно воспринимаемых формах, «жизни в формах самой жизни». И вместе с тем тот же А. В. Луначарский, как и Г. В. Плеханов, еще более резко относившийся к безыдейному оригинальничанью мнимых новаторов, — в оценке целого ряда конкретных явлений искусства, связанного с «новейшими исканиями», выказывал тонкое понимание возможностей, заложенных в их творческих исканиях. Таковы, например, отзывы Плеханова об импрессионизме или Луначарского — о театре Мейерхольда.
Стоит задуматься над тем, почему отдали дань увлечению «левым» искусством многие из складывавшихся в двадцатые годы поэтов, писателей, композиторов, живописцев, в том числе Маяковский, Пастернак, Сергей Прокофьев, Пабло Пикассо. Ведь эти большие художники были искренни в своих экспериментах и в своей преданности революции, в желании служить своим творчеством народу.
Возникшее на закате буржуазной культуры «левое» искусство настойчиво объявляло себя провозвестником и предтечей социальной революции. «Странная ломка миров живописных была предтечею свободы, освобожденья от цепей», — писал Хлебников в стихотворении «Бурлюк». Смутно чувствуя, что в мир приходит что-то новое, невиданное, «левые» поэты и художники пытались предугадать его черты. Прошлое человечества было скомпрометировано, и это давало, казалось, основание для наивных предположений, что буквально все, с ним связанное, надо отбросить и сжечь, как грязное белье, кишащее микробами и паразитами. История так убыстрила свое течение, ввела столько нового в различные области человеческого существования, что казалось совершенно невозможным обойтись уже канонизированными формами художественного языка. Искусство хочет шагать в ногу с веком. Разительная новизна формы и содержания стихов Маяковского, музыки Прокофьева была неоспорима.
Однако уже к середине двадцатых годов даже самые благожелательно настроенные к «левому» искусству критики стали отмечать признаки его кризиса.
Народ видел в искусстве орудие познания новой действительности, орудие самопознания. Подчас это отражалось в наивной форме, но по существу это диктовалось огромным уважением к искусству, в особенности к литературе, всегда бывшей для читателя наставником и учителем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: