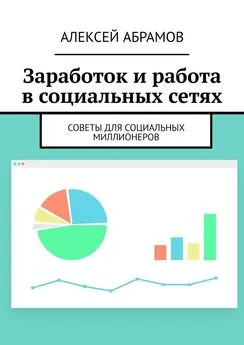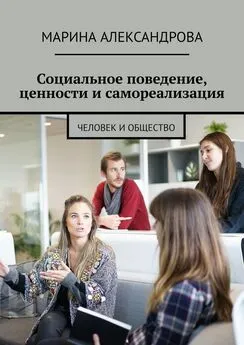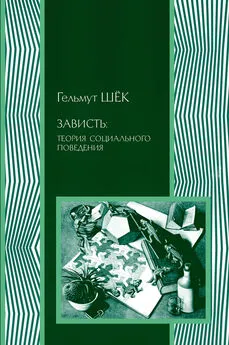Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение
- Название:Инстинкт и социальное поведение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение краткое содержание
Инстинкт и социальное поведение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, можно придерживаться «строго объективной» позиции, игнорируя все моральные оценки; при таком подходе целью историка остается изложение событий в их причинной связи, столь же свободное от эмоций, как описание эволюции какого-нибудь вида животных. Очень сомнительно, возможен ли такой подход, если сам историк принадлежит тому же виду, но для нас такой лицемерный «объективизм» заведомо невозможен. В самом деле, мы считаем мораль важной частью человеческого поведения, подлежащей изучению наряду с другими мотивами этого поведения; мы полагаем даже, что «моральные правила» древних племен коренятся в инстинктах человека, как это было подробно описано в третьей главе. Как гласит известное изречение, «мораль находится в природе вещей» [76] La morale est dans la nature des choses (фр.).
, и пренебрежение моральными оценками у историка или философа – несомненный признак деградации человеческого типа исследователя, а вместе с тем и самой науки.
Капитализм, то есть массовое производство с преимущественным использованием наемного труда, через двести лет после своего появления в самом деле доставил населению некоторых передовых стран невиданное материальное благополучие (при нищете, и даже в значительной степени – ценой нищеты подавляющего большинства людей в остальных странах). Но нас интересуют теперь не эти отдаленные результаты капитализма, которые мы исследуем в дальнейшем, а его непосредственные социальные последствия , к которым часто применяется термин «классический капитализм» (или, не столь вежливо, «дикий капитализм»).
Мы уже настолько привыкли к современной форме наемного труда, что не отдаем себе отчета в разительном изменении образа жизни, которое он принес. Каждый день бесчисленные миллионы людей к определенному часу «идут на работу», и остаются там до другого определенного часа. Стóит только спросить, хотят ли они идти на работу, и вы получите в подавляющем числе случаев отрицательный ответ! Они не хотят идти на работу, но вынуждены идти. Могут сказать, что сама жизнь вынуждает нас совершать поступки, без которых мы бы охотно обошлись, и что так было во все времена: людям приходилось итти на охоту, приходилось обрабатывать землю. Но в этих случаях необходимость труда, его прямая связь с требованиями жизни была очевидна. Для заводского рабочего или конторского служащего такой связи нет. Они выполняют работу, им лично ненужную, смысла которой они в большинстве случаев не понимают. Могут возразить, что это неизбежное следствие сложности современного производства и разделения труда. Так говорили о конвейерной системе Форда, почитателем которой всегда оставался Сталин; но в конечном счете сами американцы поняли, что эта система не только бесчеловечна, но и невыгодна . Впрочем, дело не в этом. Мы имеем в виду самую цель всякого производства. Если производство устроено таким образом, что оно фрустрирует биологические потребности подавляющего большинства людей и вызывает у них ощущение бессмысленности жизни, то это производство вредно , и никакая эффективность его не оправдывает. Никакие рассуждения не могут оправдать ежедневное несчастье наемного труда!
В начале капитализма его биологическая противоестественность проявилась в ряде почти невероятных фактов. Впоследствии эти факты, засвидетельствованные парламентскими расследованиями, печатью и независимыми наблюдателями, пытались отрицать или опорочить с помощью статистики. Дело в том, что первым систематическим трудом о положении английских рабочих была книга Фридриха Энгельса, вышедшая в Германии в 1845 году и сразу ставшая классической – по единодушному мнению историков, знавших изображенную в ней действительность. Ни один приведенный Энгельсом факт не был опровергнут – он цитировал самые почтенные официальные источники, а также ссылался на собственные наблюдения во время своей жизни в Англии, где он управлял текстильной фабрикой в Манчестере. Но, конечно, Энгельс был тенденциозный историк, и в 1920-ых годах возникла школа «ревизионистов», пытавшаяся доказать, что все это было не так уж страшно. Эти историки противопоставляли отдельным фактам «статистику», то есть по существу оправдывали массовое убийство рабочих и их детей тем фактом, что большинство их все же оставалось в живых.
Девятнадцатый век был веком высшего расцвета человеческой цивилизации. Слово «цивилизация» означает то же, что «культура» в ее универсальном смысле, то есть богатое духовное содержание общественной жизни, проявляющееся в сложности социальной структуры и высоком развитии технических возможностей общества. К 1800 году высшее развитие цивилизации сосредоточилось в западном культурном круге, то есть в Западной Европе и ее колониях. Поэтому можно ограничиться здесь историей европейской культуры, которую в той или иной мере воспроизводят теперь все другие народы, имитирующие методы европейского капитализма.
Итак, достаточно проследить развитие цивилизации в Европе. Почти очевидно, что двадцатый век был уже веком разложения европейской культуры. В девятнадцатом веке наивысшая точка развития – время наибольшего оптимизма и самой утонченной индивидуальной культуры – приходится на середину столетия. Около 1850 года проницательный историк Маколей мог еще петь гимны прогрессу, а в 1851 году Всемирная выставка в лондонском Хрустальном Дворце продемонстрировала техническое могущество Европы, уже навязанное всему остальному миру. Но в это же время Джон Стюарт Милль уже видел, что Англия прошла «акме» своей цивилизации и вступает на путь застоя, превращаясь в нечто вроде Китая, Герцен осознал «буржуазное» самодовольство Европы, а Томас Карлейль, принципиальный враг прогресса, предсказывал возвращение к средневековью, то есть фашизм. И в самом деле, несмотря на огромные достижения естествознания (как это было и в конце Возрождения), во второй половине века литература и искусство зашли в тупик, получивший в конечном счете название «декаданс», а в общественной жизни развился примитивный «экономический социализм», ставивший себе чисто материальные цели. По существу, девятнадцатый век окончился в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Таким образом, «золотой век» прогресса и в самом деле длился около ста лет – от вдохновенной речи Тюрго до открытия пошлейшего Хрустального Дворца.
Подлинная причина последовавшего затем культурного упадка – тот мощный социальный процесс, который Ортега впоследствии назвал «восстанием масс». В начале этого процесса было мятежное движение низших классов Европы под утопическим знаменем «социализма». Движущей силой этого мятежа была та же классовая борьба, с которой мы встречались в каждой эпохе истории. Как мы увидим, это была реакция масс на современный капитализм. Капитализм в его «диком» виде был невозможен, и до сих пор не найден компромисс, позволяющий сохранить его технические достижения, и в то же время достигнутый человечеством высокий уровень культуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Мэтью Джексон - Человеческие сети [Как социальное положение влияет на наши возможности, взгляды и поведение]](/books/1061636/metyu-dzhekson-chelovecheskie-seti-kak-socialnoe-po.webp)