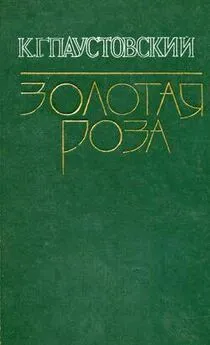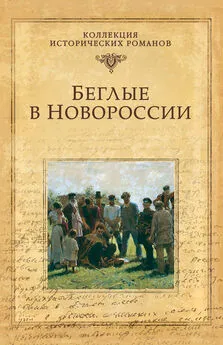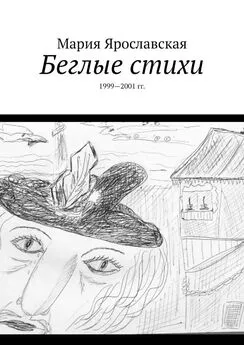Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
- Название:Беглые взгляды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-800-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфганг Киссель - Беглые взгляды краткое содержание
В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.
Беглые взгляды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В метро всегда тепло. Купив билет и опустившись под землю, вы можете провести там целый день […]. Зимой, когда очень холодно, есть люди, которые целый день проводят в метро, спасаясь от нетопленой комнаты. Иногда это — безработный, иногда, быть может, поэт. Поэты, которые отогревают там свои пальцы настолько, что могут держать перо… (Инбер, 84).
Рифмовка «три четверти Парижа» и «три четверти часа» выдерживает традиционное уже единство парижской жизни. С другой стороны, реминисценции из «Богемы» вносят социальную окраску. Обе ноты звучат единым аккордом. Здесь хорошо заметно, как мелко порубленные идеологические косточки позволяют заложить в подтекст все необходимые идеологические значения, из разных идеологических систем. Когда нужно, в сознании читателя актуализируются классовые значения, когда нужно — национально-буржуазные.
Деталь окончательно теряет свою псевдосвободу. Она не просто приколота идеологической булавкой пуанта — она заперта в мощную раму, составленную из соседних деталей. Сцепление деталей создает общий идеологический фон. Например, у Никулина описание метро соседствует с описанием вредного для здоровья труда парижских портних. В сознании читателя срабатывает маячок-перифраз, соотносящий душные мастерские и душный метрополитен. Мрачно-романтического соседа получает метро у В. Инбер: в главе «Нутро Парижа» соединены метрополитен — и парижские катакомбы с залами и часовнями, выложенными из костей умерших парижан. Метонимия сменяется метафорой, и картины парижского метро окончательно превращаются в читательском восприятии в мрачное средневековое подземелье.
Лакмусовая бумажка свободного взгляда — тема искусства. В 1923 году в очерке «Семидневный смотр французской живописи» Маяковский подчеркивал, что его суждения об искусстве никак не связаны с политическими воззрениями:
О нет! Я меньше, чем кто-нибудь из русских искусства, блещу квасным патриотизмом. Любую живописную идею Парижа я приветствовал так же, как восторгаюсь новой идеей в Москве (М 4, 242).
Правда, сразу за этим полпред стиха сообщал, что в Париже восторгаться нечем, так как никаких новых идей во французском искусстве нет. В цитируемой выше парижской презентации Луначарского тоже утверждалось, что политика и искусство существуют автономно. Если в травелогах первого этапа много обсуждалась парижская живопись, то в текстах второй половины двадцатых на первый план выходит архитектура. Поначалу архитектурные темы кажутся свободными от политики, информационно-описательными. Читателя информируют о переменах во внешнем облике города:
Весь Париж выстроен по одному образцу: для домов выработана форма со строго определенным размером окон, дверей и т. д. Правда, это придает Парижу ту стройность, то единообразие, которое так выгодно отличает его от других городов. […] Никаким «новым» веяниям архитектуры здесь не место.
Но в предместьях Парижа, например, там, где селятся либо богатые люди, либо «чудаки», — в предместьях можно увидеть уже то, что называется «сите модерн», т. е. «дом новейшей архитектуры»… В домах этих прежде всего поражает простота их очертаний, их прямоугольность. Все они — большие светлые кубы, где стекло занимает столько же, если не больше места, чем камень (Инбер, 169–170).
Однако при помощи череды умозаключений свободное искусство получает политические привязки и перестает быть свободным. Прежняя архитектура и современная архитектура сначала сводятся к замещающим их символам: это, соответственно, завитушка-зигзаг (восходящий, надо думать, к рококо) и прямой угол. Затем они получают географические привязки: традиционная архитектура — это Париж, современная архитектура — это капиталистическая Америка (откровенный враг — с США нет даже дипломатических отношений). И наконец, они обретают политико-экономические ассоциации. Французские завитушки — это вершина многовековой европейской цивилизации, не имеющей даже классовой привязки («зигзаги» создавались Европой испокон веку). Прямота линий есть откровенность капиталистической наживы, пучки прямых линий создает примитивный разбогатевший человек. Архитектурный функционализм в трактовке 1927 года сводится к утилитаризму и именуется архитектурой агрессивного мещанства. Если Маяковский и лефовцы считали мещанством завитушку и реверанс, то теперь оценки повернулись на сто восемьдесят градусов. Лефовский прагматизм прошел круг развития и завершился самоосуждением, рожденным из глубин советского общественного сознания. Характерно, что последовательное неприятие современной архитектуры мы находим в книге конструктивистки Инбер:
Лестница устанавливается там, где она занимает наименьшее количество места и обслуживает наибольшее число комнат. Она устанавливается там, где это всего удобнее для человека, а не красивее всего для лестницы, как это делали раньше. И по этой новой, «строго мотивированной» лестнице сходит к человеку в дом новое понятие о красоте, новая [читай: буржуазная. — Е.П.]эстетика (Инбер, 173–174).
Все зависит от того, как понимать обобщенного «человека». Если лестница служит пролетариату, она не утилитарна; она несет идею коммунистического коллектива. Если же сытому ограниченному буржуа, она немедленно осуждается за безыдейность. Искусство абстракций и прагматики распространилось по Европе и перестало быть пролетарским. В категорию обобщенной Идеи, соответствующей идее Пролетариата, вновь возвели прежнюю (буржуазно-эстетскую, в терминологии ранних двадцатых) Красоту.
Искусство, несмотря на декларации о его свободе, целиком и полностью зависит от связанных с ним политических сил. Так, немецкий Bauhaus кажется Илье Эренбургу живым искусством до той поры, пока он поддерживается социалистическим правительством Тюрингии:
Здесь обосновалась академия — «Bauhaus» — единственная живая художественная школа Германии. Ее удалось устроить в дни ноябрьских бурь. Она случайно уцелела в нынешние годы отступлений под охраной нынешнего тюрингенского социалистического правительства (если хочешь, не менее случайно уцелевшего) [850].
Но Bauhaus, переехавший в Дессау, вызывает уже иные эмоции — сомнения в творческой состоятельности кардинального новаторства. Пабло Пикассо, друг молодости, навсегда останется для Эренбурга вершиной искусства XX века. Его как более высокую и более точную «формулировку» новой эпохи он противопоставит и Кандинскому, и Корбюзье. Новая позиция Эренбурга достигнет логического завершения в очерке «Новый Париж» (1926). Дело тут, правда, не столько в различиях между Гропиусом и Пикассо, сколько в другом. Голос авангардиста Эренбурга звучит в унисон перестроившейся конструктивистке Инбер:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: