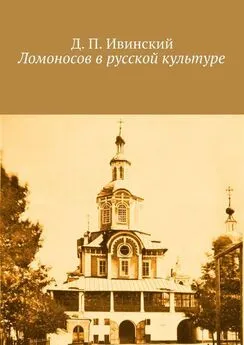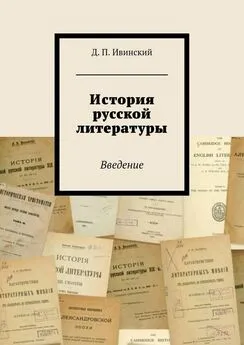Дмитрий Ивинский - Ломоносов в русской культуре
- Название:Ломоносов в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-2568-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Ивинский - Ломоносов в русской культуре краткое содержание
Книга посвящена описанию тех аспектов образа М. В. Ломоносова, которые на протяжении длительного времени сохраняли устойчивость на разных уровнях русской культуры, способствуя сохранению ее единства.
Ломоносов в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первое знакомство с поэзией Ломоносова может повлиять на выбор жизненного поприща: «В ожидании заутрени, отец мой, для прогнания сна, вынес из кабинета Собрание Сочинений Ломоносова, <���…> и начал читать вслух известные строки из Иова; потом Вечернее размышление о Величестве Божием . в котором два стиха:
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна…
произвели во мне новое, глубокое впечатление. Чтение заключено было Одою на взятие Хотина. Слушая первую строфу, я будто перешел в другой мир; почти каждый стих возбуждал во мне необыкновенное внимание, хотя и неизвестно мне еще было, о какой говорится горе:
Где ветр в лесах шуметь забыл,
В долине тишина глубокой;
Внимая нечто ключ молчит и проч.
Потом третий стих в девятой строфе:
Мурза упал на долгу тень,
полюбился мне верностью изображения. <���…> Но последние четыре стиха девятой строфы:
Над войском облак вдруг развился,
Блеснул горящим вдруг лицем;
Омытым кровию мечем
Гоня врагов, герой открылся…
особенно же последние два в двенадцатой:
Свилася мгла, герои в ней;
Не зрит их око, слух не чует…
исполнили меня священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые чувства, новое наслаждение, и прельстился славой поэта» (Дмитриев 1866, 18—19).
В памяти могут оставаться услышанные в детстве рассказы о Ломоносове: «Мой отец родом из Архангельска, испытал обаяние своего великого земляка помора Михайла Ломоносова и в ранние годы моей жизни рассказывал мне о нем. В моем воображении слилось воедино детство моего отца с детством Ломоносова» (Анциферов 1992, 19). Имя Ломоносова воспринимается как знак литературной позиции, избираемой сознательно, ср., напр., рассказ о забавном школьном эпизоде с Г. Н. Городчаниновым в воспоминаниях С. Т. Аксакова: «Я сказал, что всем предпочитаю Ломоносова и считаю лучшим его произведением оду из Иова. Лице Г-ва сияло удовольствием. «Потрудитесь же что-нибудь прочесть из этой превосходной оды», сказал он. Я того только и ждал <���…>. Но как жестоко наказала меня судьба за мое самолюбие и староверство в литературе! Вместо известных стихов Ломоносова:
О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, человек!
я прочел, по непостижимой рассеянности, следующие два стиха:
О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер!
<���…> Я потом объяснился с Г-вым и постарался уверить его, что это была несчастная ошибка и рассеянность <���…>; я доказал профессору, что коротко знаком с Ломоносовым, что я по личному моему убеждению назвал его первым писателем; узнав же, что я почитатель Шишкова, он скоро со мной подружился. Г-в сам был отчаянный Шишковист » (Аксаков 1856, 368—369). Оказывался возможным и сюжет детского самоотождествления с Ломоносовым, интерпретируемый, разумеется, иронически: «На одном из <���…> уроков, заданных нам по Востокову, я провалился; это произвело во всем классе впечатление; так как, – рассуждали товарищи, – если провалился он, т. е. я, самый что ни на есть Ломоносов, то что же ожидает их, остальных? / Время подходило к лету. Оставленный без отпуска, я решительно не знал, что мне делать. <���…> Другие оставались без отпуска довольно часто <���…>, но я, я – это совсем другое дело. И из-за чего? Из-за грамматики Востокова, по русскому языку? Я, я – Ломоносов!..» (Случевский, 4, 263—264).
Он поэт, снискавший бессмертие, что признают и современники, и потомки: «Стихотворство и красноречие с превосходными познаниями правил и красоты российского языка столь великую принесли ему похвалу, не только в России, но и в иностранных областях, что он почитается в числе наилучших лириков и ораторов. Его похвальные оды, надписи, поэма „Петр Великий“ и похвальные слова принесли ему бессмертную славу» (Новиков 1772, 128); «Он вписал имя свое в книгу бессмертия, там, где сияют имена Пиндаров, Горациев, Руссо» (Карамзин 1803, [10]); «Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно» (Батюшков, 2, 180); стремлению славить его полагает пределы только смерть:
О Ломоносов стрелометный!
Я пел тебя и вновь пою,
И стану петь, Певец бессмертный!
Доколе чашу жизни пью <���…>
Ср. вариант от лица воображаемого Ломоносова:
Горжуся тем, что сердце Россов
Умел я пеньем восхитить,
Что сын крестьянской Ломоносов
По смерти даже будет жить!
Он открыл европейскую поэтическую традицию русским и славянам:
Твоей услышан голос лиры,
Нам стал доступен Геликон;
Воскресли Пиндары, Омиры,
Расин и Шиллер и Мильтон;
<���…>
Уже Славянские народы,
Предчувствуя восторга жар,
На белыя стремятся воды
Почтить чудесный слова дар <���…>
Ему стремятся подражать:
Я блеском обольщен прославившихся Россов;
На лире пробуждать хвалебный тон учусь,
И за кормой твоей, отважный Ломоносов
Как малая ладья, в свирепый Понт несусь
Впрочем, как обычно выясняется, на самом деле подражать Ломоносову невозможно:
Се Пиндар, Цицерон, Виргилий, – слава Россов,
Неподражаемый , бессмертный Ломоносов
Cр. замечания Державина о его попытках следовать за Ломоносовым: «Правила поэзии почерпал из сочинений г. Тредиаковского, а в выражении и штиле старался подражать г. Ломоносову, но не имея такого таланту как он, в том не успел» (Державин, 6, 443) 29. Ср. еще:
Кто Росску Пиндару желает
В восторгах пылких подражать,
Во след Икара тот дерзает
На крыльях восковых летать:
Взнесется к облакам; – но вскоре,
Лишь солнца силу ощутит,
Низринется стремглав; и море
Безумца имя возвестит
Для Державина, впрочем, Капнист готов сделать исключение из этого общего правила:
Державин! ты на лире звонкой
Воспой великия дела <���…>
Ломоносов-филолог – новатор, учитывающий значение традиции: «Ломоносов своею грамматикою положивший конец схоластическому обаянию грамматического художества и выведший это художество из заповедного круга религии в область самостоятельного знания, независимо от его односторонности в исключительном приложении к церковному делу, все же не остался без некоторого благотворного влияния старой церковно-славянской грамматики, насколько имела она в себе живительные начала для литературы и для научной системы. Правда, везде в своей грамматике является он самобытным творцом, пролагающим в невозделанном поле новые пути, но, вместе с тем, виден в нем и прилежный ученик Смотрицкого. Творец небывалой дотоле русской грамматики не мог не быть новатором, но, как человек действительно гениальный, он не хотел разрушать старину, и на ее прочных основах вывел свое новое здание, в соответствие самой русской литературе, возникшей на многовековой почве церковнославянской письменности» (Празднование 1965 а, 70); ср. о предпринятой им реформе языка: «Ломоносов поставил себе трудную задачу. Он пожелал совместить старину и новизну в одно гармоническое целое, так, чтобы друзья старины не имели основания сетовать о сокрушении этой старины, а друзья новизны не укоряли в старомодности. Могучий талант помог Ломоносову» (Соболевский 1911, 7). Эта гармония явилась как преодоление первоначального хаоса: «Духовные писатели неудачно смешивали обороты слога библейского с выражениями простонародными, пестрили язык <���…> иностранными <���…> речениями <���…> – я язык Великороссийский, в начале прошлого столетия, является в <���…> хаотическом, неустроенном состоянии. Привести в порядок разнородные стихии, сблизить язык гражданский <���…> с богослужебным, более образованным и богатым – и создать из этого стройное целое, предоставлено было Ломоносову» (Стрекалов 1837, 71); ср.: «Ломоносов <���…> один в свое время боролся с препятствиями нашего языка, и естьли бы не было Ломоносова, то я не знаю, что был бы наш язык и по ныне» (Грузинцов 1802, 146); ср. еще: «Начало сего отделения Русской Литературы (речь идет о елизаветинской эпохе – Д. И.) ознаменовано преобразованием, или, лучше сказать, сотворением Русского языка: сим обязаны мы гению Ломоносова. Он первый умел отличить язык народный Руский, но возвышенный и благородный, от языка богослужебного, не отвергая между тем красот сего последнего <���…>» (Греч 1822, 148—149) 30.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: