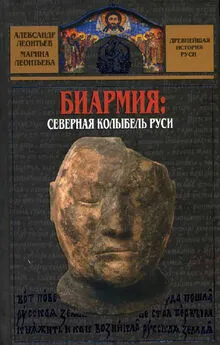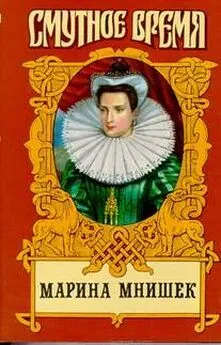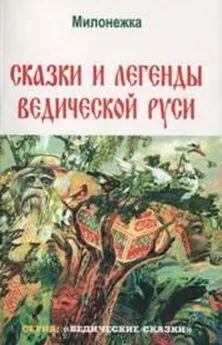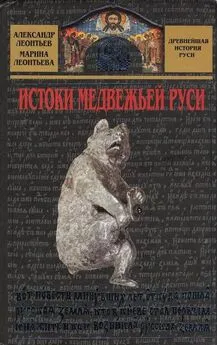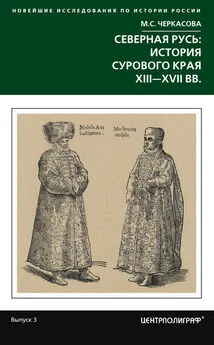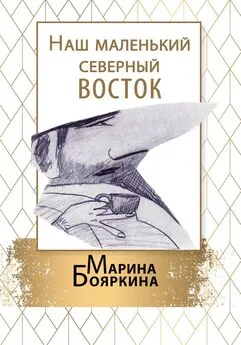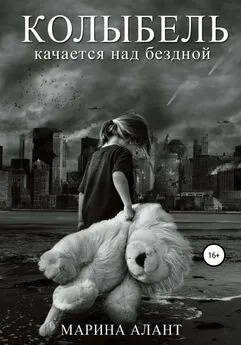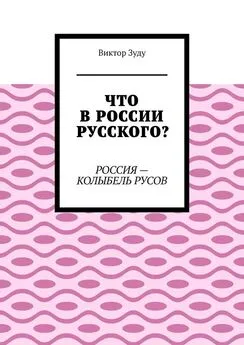Марина Леонтьева - Биармия: северная колыбель Руси
- Название:Биармия: северная колыбель Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0419-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Леонтьева - Биармия: северная колыбель Руси краткое содержание
О таинственной северной стране Бирамии ныне помнят только ученые. А некогда это было богатое и могущественное государство на берегах Белого моря, слава о котором достигла самых отдаленных уголков Европы и Азии. В Биармию шли караваны купцов из Средней Азии, плыли в своих боевых ладьях воинственные викинги за добычей. По одной из исторических гипотез, именно Биармия стала колыбелью великорусской нации.
Время сравняло с лицом земли города и веси Великой Биармии. Даже само ее месторасположение стало загадкой для последующих поколений. Покров над этой тайной приподнимают писатели-историки Александр и Марина Леонтьевы, посвятившие свою жизнь изучению родного Поморья.
Биармия: северная колыбель Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой известный упомянутый знаток скандинавский саг, Т. Н. Джаксон, к началу XXI столетия также существенно изменила свое мнение о локализации Биармии. Более того, она склонилась к мысли, что существовала не одна, а две Биармии (северная и южная), разделенные Белым морем и его Кандалакшским заливом. По ее мнению, изначально топоним Bjarmaland служил для обозначения всей западной половины Беломорья между реками Онега и Стрельна (или Варзуга) на Терском берегу Кольского полуострова. Видимо, считает она, эту область имеют в виду и договорные грамоты Новгорода с великими князьями в 1264 и 1304–1305 гг., когда называют между Заволочьем (куда входило и нижнее течение Северной Двины) и Тре (Терским берегом, начинающимся к востоку от Варзуги) волость Колопермь/Голопермь , во второй части которой (- перемь ) можно усмотреть тот же корень, что и в beormas Оттара и в bjarmar скандинавских источников. К сожалению, уважаемая Т. Н. Джаксон, как и многие предыдущие исследователи, оказалась жертвой ошибочной трактовки топонима Biarmia , считавших, что он произошел от слова Пермь .
Однако она не исключала того, что « в ряде случаев название Бьярмаланд могло применяться к низовьям Северной Двины ». Изначальное «соединение» племен биармов , считает Джаксон, помещаемых большинством источников на Кольском полуострове и в западном Беломорье (откуда она это взяла?) и реки Вины , нередко выступающей в скальдике в качестве метафорического обозначения реки вообще, было осуществлено, по ее мнению, скальдом Глумом Гейрасоном. Изменение семантики топонима Bjarmaland, по сравнению с рассказом Оттара и другими источниками, могло произойти в королевских сагах и сагах о древних временах, вероятней всего, как следствие соотнесения скальдической реки Вины с реальной рекой Северной Двиной, ставшего возможным, как считала исследовательница, в результате участившихся плаваний скандинавов в Белое море и их знакомства с Северной Двиной. Вот так изящно уважаемому историку удалось все же, в конце концов, опять переместить Биармию с Кольского полуострова в низовья Северной Двины.
Но, самое главное (с чем категорически все время не может согласиться ее главный оппонент, историк и писатель А. Л. Никитин), она справедливо полагала, что саги, как правило, описывают естественный для норвежцев северный морской путь в Биармию, говоря о пути « на северв Финмарк и дальше вплоть до Бьярмаланда », называя в качестве промежуточных точек несколько островов у северо-западного побережья Норвегии и у побережья Финмарка. Обратный путь описывается у них как путь « с севера »; героям саг приходится плыть по Гандвику; они попадают из Бьярмаланда «назад в Финмарк», а оттуда в Норвегию. Не подлежит сомнению, что Биармия (Bjarmaland скандинавских саг) находилась именно на Европейском Севере.
Хотя относительно недавно (около тридцати лет назад) появилась другое, почти на грани фантастики, особое мнение, и что интересно, превалирующее в настоящее время над указанными выше точками зрения о месторасположении Биармии.
В 1976 году в журнале «Вопросы истории» вышла любопытнейшая статья А. Л. Никитина под названием «Биармия и Древняя Русь». Своей работой московский историк наделал много шума среди ученых-скандинавистов, т. к. в ней попытался разрушить устоявшиеся представления о географическом положении Биармии. Он утверждал, что Биармии никогда не было не только у Белого моря, но даже на Кольском полуострове, а она находилась на побережье Рижского залива, в устье Западной Двины. По мнению Никитина, английский король Альфред Великий не сам записывал знаменитый рассказ Оттара, а это делал придворный писец. И самое главное, при беседе якобы присутствовал еще один путешественник, Вульфстан, совершивший накануне плавание из Дании в Финский залив. Король расспрашивал их одновременно, так утверждал А. Л. Никитин, а писец механически все фиксировал, в результате получилось искусственное соединение двух рассказов. Как же историк пришел к такому суждению?
В своей книге «Королевская сага» А. Л. Никитин подробно рассказал об этом. В 60-е и в начале 70-х годов прошлого столетия ему часто приходилось бывать в Беломорском крае. Никитин посетил Онежский район, Терский берег Белого моря, где молодой ученый занимался археологическими поисками. После одной из таких поездок на Север из-под пера талантливого писателя вышла замечательная книга «Остановка Чапома», рассказывающая о наших земляках, простых людях Беломорья, поморах.
В то лето он прошел, где пешком, где на лодке, почти весь знаменитый Тре , так называли в древнерусских летописях юго-западный берег Кольского полуострова. Начитавшись скандинавских саг, молодой романтик мучился одной мыслью – обязательно разыскать следы пребывания викингов на побережье Белого моря, ну хотя бы «найти какие-либо остатки их факторий», а на худой конец, ни много ни мало «раскопать и курган одного из древних «рыцарей удачи». В конце своего путешествия, когда он улетал на «кукурузнике» из Пялицы, соседней с Чапомой деревни, в окно иллюминатора ему удалось разглядеть недалеко от какого-то кургана четырехугольный контур якобы развалин «усадьбы – земляного дома похороненного здесь викинга».
На следующее лето с группой курсантов Архангельского мореходного училища и московских киношников, прибывших в Пялицу на учебной шхуне «Запад» (на той самой, которая стоит на набережной Двины), Никитин приступил к археологическим раскопкам злополучного кургана, считая, «что это, безусловно, гробница викинга», в котором они, конечно, ничего не нашли. Это было естественное образование, причуда природы, каких на побережье Белого моря можно обнаружить сотни, поморы их еще называют сопками .
Разочарованный неудачей, по его словам, Никитин потерял последнюю надежду найти доказательство плаваний скандинавов в Белое море. Невдомек ему было, что викинги никогда не хоронили своих коллег на чужой территории, а предпочитали погребать их в море. Даже в безвыходном положении все равно не оставляли убитых на поле боя, подбирали и бросали мертвецов позднее в воду, главное, чтобы, как они считали, души погибших соотечественников не попали в руки врагов. Об этом хорошо сказано в саге «Об Одде Стреле». Более того, ни в одном скандинавском произведении не говорится о гибели норвежских или шведских королей (конунгов) в Биармии (рядовых викингов никогда не хоронили в курганах, этой чести удостаивались только верховные вожди, знатные люди). И если бы это произошло, то такое знаменательное событие обязательно оказалось отраженным в сагах. Причем, из саг известно, в этой северной стране побывали всего лишь два норвежских конунга – Эрик Кровавая Секира и Гаральд Серая Шкура, так что очень сомнительно было искать на территории Кольского полуострова какие-нибудь викингские захоронения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: