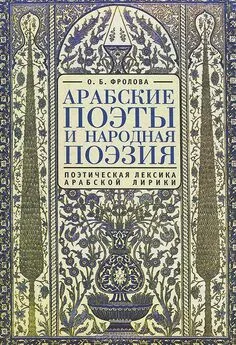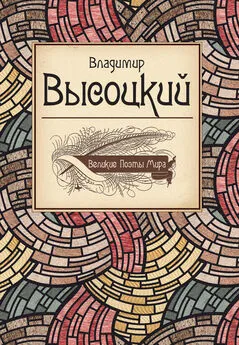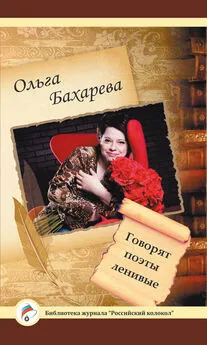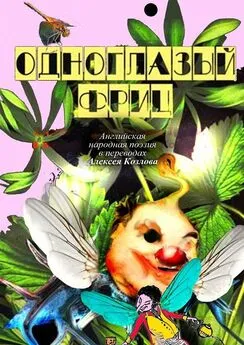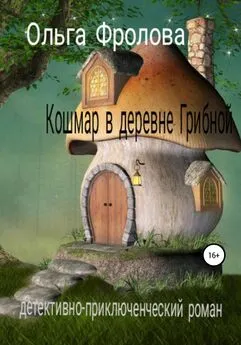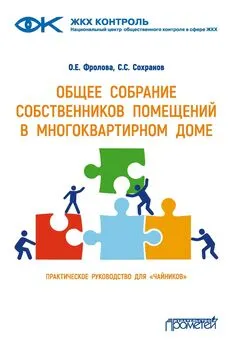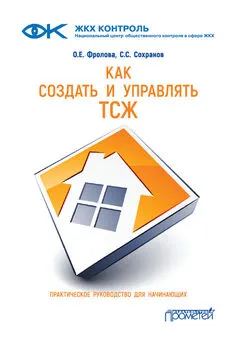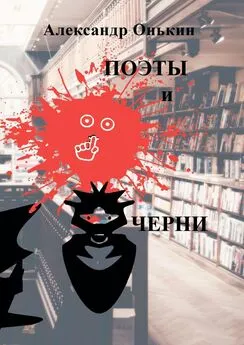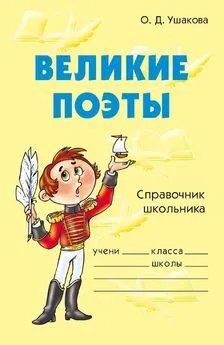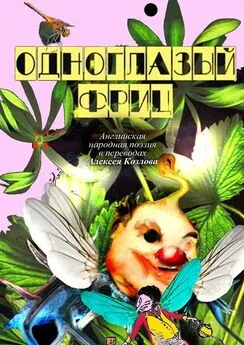Ольга Фролова - Арабские поэты и народная поэзия
- Название:Арабские поэты и народная поэзия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-726-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Фролова - Арабские поэты и народная поэзия краткое содержание
В монографии на обширном материале арабской классической, современной литературной и народной поэзии рассматриваются устойчивые лексические единицы любовной и пейзажной лирики. Анализируются характерные особенности поэтического словаря и выразительные средства. Приводится специальный лексикон, содержащий слова и выражения, часто употребляемые поэтами. Дается анализ творчества отдельных поэтов и произведений народной поэзии.
Для востоковедов-филологов, а также для всех, кто интересуется восточной поэзией.
Арабские поэты и народная поэзия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В монографии о Мухаммеде Саиде ал-Аббаси затрагиваются разные стороны его творчества: патриотические стихи, оды, элегии, стихи религиозно-суфийского содержания. Исследователь подчеркивает важность обращения поэта к патриотической теме, хотя при этом поэт и сохраняет традиционные атрибуты любовного арабского стихотворения — газаля.
Для арабской поэзии вообще характерны высокая степень аллегоричности, иносказательность, символика. Особенно это отличает суфийскую поэзию, в которой все ключевые слова являются знаками, эмблемами скрытого мистического содержания. Таким образом, если арабский язык является системой знаков, обладающих планом выражения и планом содержания, находящимися в определенном отношении друг к другу, то эта система выступает в роли простого элемента вторичной системы — языка арабской лирики, где знаки первой системы выступают как план выражения, а планом содержания служат семантические концепты, представления, характерные для арабской лирики [ср. 133, с. 157]. В свою очередь, эта вторичная система представляет собой простой элемент для системы языка суфийской поэзии, в которой означающие — это система знаков арабской лирики, выступающих как эмблемы для мистико-религиозных понятий. Систему таких эмблем можно назвать вторичной коннотативной системой. Вторичная коннотативная система может быть определена как система, план выражения которой сам является коннотативной системой по отношению к естественному языку. Представление об этом может дать следующая схема:
Вторичная коннотация (суфийская поэзия):
символика: означающее 2 + означающее 3 = означающее 3: вис̣а̄л
идеология: означаемое 3: «единение с богом»
коннотация (арабская лирика):
риторика: означающее 1 + означающее 2 = означающее 2: вис̣а̄л
идеология: означаемое 2: «любовное свидание»
денотация
означающее 1: вис̣а̄л
означаемое 1: «связь»
Схема предстает в виде пирамиды, основание которой — это естественный язык, следующая ступень пирамиды, более узкая — язык лирики, и затем еще более узкая и специфическая часть — символический язык суфийской поэзии. Обычно в построениях такого рода указываются два уровня [ср. 133, с. 453].
В арабских сочинениях суфийского характера план выражения и план содержания — символика и идеология — имели свои терминологические обозначения — з̣а̄хир и ба̄тин, т. е. «явное» и «сокровенное» или «внешнее» и «внутреннее», употребленное еще в Коране. Принцип «концептуальной бинарности», или бинаризм, был основополагающим принципом арабской средневековой мысли [37, с. 44]. Бинаризм в современной семиотике, который считается открытием новейшей фонологии [133, с. 452] и последовательно с большим успехом применяется сейчас в структуралистских исследованиях, был хорошо известен средневековым арабским грамматикам и суфийским мистикам [37, с. 44]. Среди средневековых арабских терминов, употреблявшихся по принципу бинаризма, дихотомии, понятийных оппозиций, были: с̣ӯра - ма‘на̄ = «образ» («текст».— О. Ф. ) — «смысл» [37, с. 44], з̣а̄хир - ба̄тин = «внешнее» («означающее».— О. Ф. ) — «внутреннее» («означаемое».— О. Ф. ) и др. И. И. Ревзин утверждает: «Огромные успехи, достигнутые применением метода бинаризма, по-видимому, подкрепляют тот факт, что данная концептуальная схема соответствует особенностям человеческой психики. Существенно, однако, что большего сказать, по-видимому, нельзя: бинаризм можно связать лишь с определенной глубинной психологической установкой воспринимающего, а не с самим объектом как таковым» [134, с. 452]. Если с первой частью этого высказывания следует согласиться полностью, то вторая часть вызывает сомнения, потому что законы психологии исследователя, законы мышления и познания выводятся из природы и истории человеческого общества.
Обращаясь к конкретным примерам из творчества Мухаммеда Саида ал-Аббаси, следует подчеркнуть, что он тоже опирается на различные типы вторичной коннотативной системы, завуалированно выражая через любовную лирику социальный протест, патриотизм, с одной стороны, и религиозное чувство, мистическое настроение — с другой. Абд ал-Кадир аш-Шейх Идрис, исследователь творчества поэта, пишет о стихотворении ал-Аббаси «Сеннар между старым и новым»: «В этом произведении — живые образы и выразительные полотна, в которых воплощается глубокий патриотизм. Ал-Аббаси строит его по типу любовного стихотворения газал, упоминая и того, кто изменил обету любви, нарушил обещание, добавляя к этому одежды кокетства, которые надевают красавицы» [237, с. 13-14]:
Забыл обещания жестокий тиран (з̣а̄лим, 2) — изменил обету любви,
Отказом (с̣адд, 3) прервал последний вздох.
Тот, кто верность не чтит,— тот отдаляет свидание.
Так может ли он когда-либо щедрым быть?
Я жду подарка, а он скупится.
Когда меня нет, он укоряет (таджанна̄, 3) меня,
А когда я хочу увидеть его, он отвечает отказом (с̣адда, 3).
Увы, я раб любви (хава̄, 1) — мучительна жажда моя,
И нестерпима, губительна страсть (шаук̣, 1).
Исследователь указывает на символический смысл стихотворения и продолжает: «Мы утверждаем, что оно имеет явное и скрытое, хотя мы вынуждены признать, что все же это любовное стихотворение газал». В примечаниях к «Дивану» ал-Аббаси можно найти комментарий, который приоткрывает смысл этой символики, когда автор комментария — может быть, это сам поэт — указывает «В уме читателя может сложиться мнение, что это любовное стихотворение газал, на самом же деле это констатация существующего в Судане положения: наличия двух управляющих страной сил и народа» [237, с. 13-14]. Исследователь предполагает, что в данном случае поэт испытал влияние старой арабской поэзии, в которой была широко распространена иносказательная форма выражении мыслей о политическом и социальном аспектах жизни в форме любовного стихотворения газал. Для доказательства Абд ал-Кадир аш-Шейх Идрис прибегает к сопоставлению приведенного стихотворения ал-Аббаси со стихотворением ал-Бухтури (821—897) о жестокости предмета любви. В нем четко прослеживаются и события жизни поэта при дворе халифа ал-Мутаваккиля, предчувствия близкой разлуки с благодетелем-халифом, который был убит в 861 г. Газал современного поэта ал-Аббаси во многом перекликается с газалем ал-Бухтури (IX в.). Оба поэта в иносказательной аллегорической форме через любовное стихотворение выражали свое отношение к окружающей действительности, к историческим событиям эпох.
Арабское любовное стихотворение газал в данном случае можно сопоставить с басней, обладающей иносказательным смыслом. Газал, как и басня, обычно строится на традиционном сюжете. А. А. Потебня писал, что басни — это «постоянные сказуемые изменчивых подлежащих» [123, с. 29]. То же можно сказать и о газале, только в басне обычно условно действуют звери, в газале — аллегорические фигуры предмета любви, лирического героя, соперника-вредителя, помощника героя и т. д. Таким образом, арабский газал обладает высокой степенью абстракции, в его поэтических формулах передается реальная историческая действительность. Подобный взгляд на арабский газаль, на арабскую любовную лирику открывает новые возможности для ее изучения и пересмотра той распространенной точки зрения, которая заостряет внимание на «недостатках» арабской поэзии. «Но следует ли,— пишет Б. Я. Шидфар,— воспринимать эту традиционность, каноничность персоналий как нечто «отрицательное», сковывающее и замедляющее развитие литературы? По нашему мнению, нет, очевидно, правильно было бы рассматривать это явление как определенную степень типизации, необходимого явления в процессе развития литературы. И если эта типизация в древнеарабской литературе была еще примитивной… то в эпоху арабо-мусульманской «классики» персонажи обретают уже более отвлеченную, обобщенную и типизированную форму…» [158, с. 221]. Это явление типизации в развитии арабской литературы продолжается до настоящего времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: