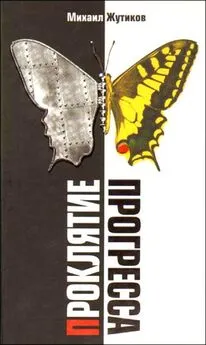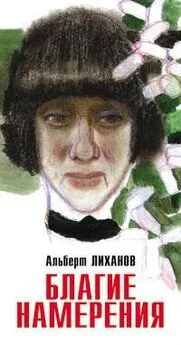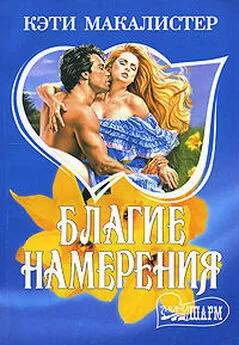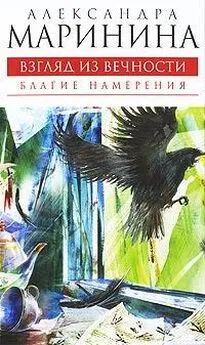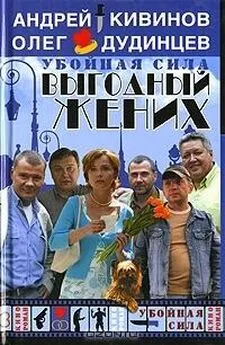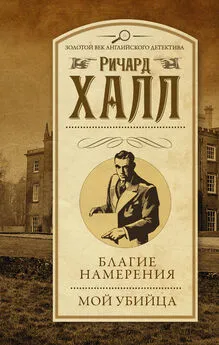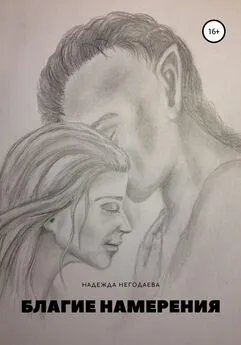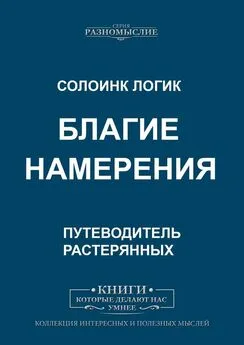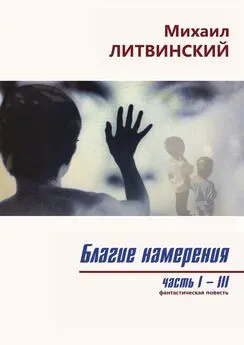Михаил Жутиков - Проклятие прогресса: благие намерения и дорога в ад
- Название:Проклятие прогресса: благие намерения и дорога в ад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-9265-0411-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Жутиков - Проклятие прогресса: благие намерения и дорога в ад краткое содержание
Справедлива ли естественно-научная картина мира, на которую мы привыкли всецело полагаться? Не коренится ли причина планетарной экологической катастрофы в самом научном методе? Утвердительный ответ на этот невероятный вопрос дает настоящая книга. Король научного познания гол, и это видно уже очень многим, но кто-то должен произнести это вслух. Несовместимость технологической практики, основанной на научных предпосылках, с планетарной жизнью получает неожиданное и исчерпывающее объяснение. Отсюда неизбежен вывод о необходимости перемены фундаментальных мировых стратегий – отнюдь не развитие «энергетики» и «экономики» в нынешнем представлении о них, напротив, свертывание того и другого – единственная альтернатива доктрине «золотого миллиарда»: «права природы» оказываются рангом выше «прав человека», поскольку включают их в себя.
К каким последствиям для России привели ее европеизация и обезбоживание? Этому посвящена вторая часть книги «Русская душа как причина русской истории».
Книга-сенсация, с обобщениями самого серьезного уровня, написана в манере, доступной для широкого круга читателей. Автор – известный публицист, кандидат технических наук. Фрагменты книги (в частности, «Зеленая стратегия») были опубликованы в столичной периодике и вызвали подобие читательского шока у многих поборников научного прогресса.
Проклятие прогресса: благие намерения и дорога в ад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но не было его.
Набирающая силу общественная поляризация должна была шатнуть издателя к демократам.
Алексей Писемский начинает славное поприще опять с «лишнего» человека, «тюфяка», по названию повести (1850) – истории гибели честнейшего Павла Бешметева: бедняк погибает между губернскими Феоктистами Саввишнами и собственной родней – погибает, кажется, единственно от невозможности втолковать им, что он не хуже их понимает дело; и сама гибель его совсем проста: «русская нирвана», то бишь пьянство – и смерть. Своего «лишнего человека» удостаивается уже полумещанская рутина.
И опять катастрофа деятельного порядочного человека – в романе «Тысяча душ» (1858), – даже ломая себя в уродливом компромиссе, герой не достигает победы. Мы теперь знаем причину – страна Чичиковых готовится к выпуску в свой высший класс – страну Швондеров, и в ней нет дела порядочным людям (разве писать романы. А к слову: бывает ли вообще им дело?? – если не шутя, если не монастырь? А не то лечить, учительствовать за бесплатно, так ведь это – служение, подвиг, а не дело, это тот же монастырь. Стало быть и есть им одно: служение?)
Итак, последователи.
Политичный, хитрый Ф.М.Достоевский переболел сам социализмом, и это слишком было у него всерьез, старая рана ныла. В понимании происходящего имел «абсолютный слух», даже изощренный, но толковал его не без срывов на гротеск, кой-что и накликал (это и все предположители что-нибудь да накличут, тот же и Лермонтов сам на себя). По беспокойству и боли за уходящее время – опоздать, не наверстать! – по жизненной смуте, ирония Федора Михайловича не всегда адресна, не светски-холодна, не убийственна; и не смешно ругался; и самого бранили. И наверстывать стало что-то много, невмоготу… Мы еще вернемся к нему.
Задачей же светского Л.Н.Толстого с ошеломительной русской нежданностью сделалось рядиться в крестьянские портки. Крестьянская ли утопия, раздражения ли семейные и государственные, великий ли поиск второпях довели графа до порток – но только затруднительно представить себе подобную метаморфозу Бабочки. Лично порываясь из богатства (юноши из Евангелия, опечаленного указанием Христа) в Царствие небесное, Лев Николаевич почти совсем убежал, но не добежал; вышла почти пародия. Толстого бранят, Толстой «спорит с историей», он «утопист», в ярлыках не стесняются. Спорить с историей и нужно: именно вся рота шагает не в ногу, именно один поручик шагает в ногу. Истина еще никогда не определялась большинством голосов. Рота шагает потому, что рядом слева и справа шагает другой идиот, Толстой один или почти один шагает «в ногу».
Но что за пророки в твоем соседстве, кто поверит такому же ?
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
А главное, поразительным образом оказывается поздно . Рота навязывает свой темп и шаг, ей не терпится дойти; являются специалисты по устройству лучшего, быстрейшего шага. И внезапность выходок Толстого, конечно, кажущаяся, их поспешность мнимая – он чувствует, как нужно уже спешить, как пора двигать дело хоть примером, хоть для одного себя; примеру не вняли, посмеялись.
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!
Сегодня уже банальность, что Лев Николаевич вообще как будто торопится пройти путь Лермонтова и двигаться скорее далее – хоть поначалу сам он едва ли мог это осознавать.
С 7 лет сирота, оставшийся «под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет… без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни и наконец изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек»… (Дневник 1854 года) – такова самооценка его начальных лет. Как и в сиротстве, в событиях «на воле» много разительно сходного с фактами жизни Лермонтова.
1844 – зачислен студентом университета (только не московского, а казанского, по месту жительства опекунши тетки, – по отделению… арабско-турецкой словесности – вспомним интерес Лермонтова к Востоку, к языку «татарскому»; 1845 – прошение о переводе на юридический факультет); апрель 1847 – прошение об увольнении и оставление университета. Некоторое время служебной и иной толкотни в Петербурге, Москве, Туле (служащий губернского правления, коллежский регистратор); ряд карточных проигрышей, начало литературного труда. Апрель 1851 – выезжает к старшему брату Николеньке (поручику артиллерии) на Кавказ, стычки с горцами все того же имама Шамиля, 1852 – зачисление на воинскую службу (фейервейкер); опубликование, между тем, в «Современнике» повести (на самом деле романа) «Детство» со многими редакционными искажениями, зато похвалами (в письмах) Н.А.Некрасова. 1854 – прапорщик, перевод в Дунайскую армию; 2 сентября – высадка англо-франко-турецкого десанта вблизи Евпатории, подпоручик; два прошения о переводе в Севастополь и прибытие туда 7 ноября 1854 года. Покуда все длится детство : «Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи – мужа…» (Дневник 1854 г.)
Другому преемнику Лермонтова пока только вышел срок каторги – Ф.М.Достоевскому 33 года, и он тоже выносит из Омской крепости «взгляд на вещи»: «Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжеле гражданской… Омск гадкий городишка… Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его.» (февраль 1854; впереди пять лет солдатчины.)
5
Тем временем общественный воздух свежеет, и сильно: переменилось царствование, что-то будет? «18 февраля скончался государь, и нынче мы принимали присягу новому императору. Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (Л.Толстой, 1855, 20 февраля). А всего за три недели до этого: «Два дня и две ночи (! – Авт. ) играл в штосс. Результат понятный – проигрыш всего – яснополянского дома. Кажется, нечего писать – я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование». 28 июля на Малаховом кургане убит Павел Степанович Нахимов, искавший смерти вместе с гибелью города – видевший неизбежность его сдачи. 28 августа наши оставляют южные руины Севастополя, а Л.Толстому в этот день исполняется 27 лет – пора идти далее Лермонтова!.. (В Лондоне явится теперь торжествующая «Севастополь-стрит»…) Увольнение с воинской службы, 1856 г. Является наконец дерзость, сходная с лермонтовской (отчасти аффектированная – поджимает время): «…И потом я совершенно игнорирую и желаю игнорировать вечно, что такое постулаты и категорические императивы …» (1856, июля 2, Некрасову Н.А.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: