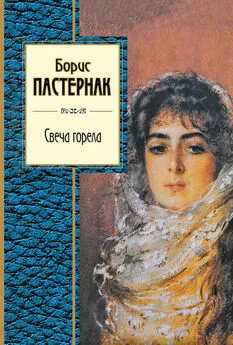Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Название:Борис Пастернак: По ту сторону поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0046-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гаспаров - Борис Пастернак: По ту сторону поэтики краткое содержание
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка. Подход к творчеству Пастернака с точки зрения его духовных оснований позволяет выявить сложное философское содержание в том, что на поверхности выглядит простым или даже банальным, а с другой стороны, обнаружить головокружительную простоту неопосредованного впечатления в кубистической затрудненности образов его ранней лирики и прозы.
Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что воображаемая «дача на реке» холодной ночью, с соловьем, поющим в ветвях, небом, полным звезд, отражающихся в воде, и купальней, полузаросшей прибрежной ольхой, может быть названа «глухим местом»; что в этом своем качестве она вполне подходит к мифологическому образу Леты, — это вполне понятно. Но почему, в силу какого смыслового хода, эта «глухость» атрибутируется всей вселенной? Ответ на этот вопрос служит последним штрихом, позволяющим идентифицировать подразумеваемого героя «определения поэзии», выделив его из группового портрета соавторов «Пощечины» и «Садка судей». Он находится в словах, заключающих собой «Облако в штанах» — любимое Пастернаком произведение Маяковского, не раз им упоминавшееся и цитируемое. Герой поэмы тщетно обращает дерзкий, нарочито оскорбительный в своей фамильярности вызов к небу — его окрик остается без ответа:
Эй вы! Небо! Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит, положив на лапу
С клещами звезд огромное ухо.
Медведица-вселенная кладет ухо на лапу, быть может, защищаясь от крика скандалиста, пытающегося потревожить ее сон. Этот момент отрезвляющей автоиронии, после опьянения собственной дерзостью, не мог не импонировать Пастернаку. Не случайно он вновь и вновь возвращался к этому произведению Маяковского, и в частности к самоописанию его автора / лирического героя: «красивый, двадцатидвухлетний».
То, что «определение поэзии» обернулось «историей стихотворца», отнюдь не делает его философские претензии безосновательными. Герой стихотворения — этот заливающийся блистательными трелями соловей, воплощение красоты и молодости, Керубино, Нарцисс, Адонис — не может не вызывать любования и восхищения. Но его неспособность оторваться от своего собственного отражения, его самонадеянная уверенность, что звезду можно поймать «голыми руками», наказывается самым комическим образом, в ситуации, глухая доморощенность которой являет собой иронический контраст с вселенским блеском намерений и ожиданий.
Это и есть то, как Пастернак-философ видел искусство, балансирующее между опьяняющим порывом и ироническим отрицанием, в его отношении к абсолюту разума. Однако перед нами нечто большее, чем только ироническая деконструкция мессианских амбиций искусства; определение поэзии действительно можно считать «определением», только построенным на своих собственных основаниях. Свое сообщение «Определение поэзии» высказывает в категориях, недоступных разумному познанию. Именно в поражении поэзии, в зрелище ее комического «падения» делается очевидным то его свойство, которого у познающей мысли нет и быть не может: ее энергия «заблуждения», способность устремляться опрометью, сломя голову, с отчаянностью сознания собственной беззаконности, навстречу риску.
Метафизическая позиция Пастернака, то, чего он, с декларированной неловкостью своей хромоты и провинциальной анти-харизматичностью, требует и ожидает от искусства, остается на заднем плане этой маленькой драмы, в качестве безмолвного свидетеля — или, если угодно, того другого соловья, участника поединка, голос которого (умоляющее «Очнись!») остается почти не расслышанным за блестящими переливами соперника. Вот так же в «Охранной грамоте» он скажет о своей ранней поглощенности личностью и поэзией Маяковского:
Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. (ОГ III: 6)
Когда писалось «Определение поэзии», он, конечно, не думал, какой профетический смысл заключает в себе нарисованная в стихотворении картина гибели «стихотворца». Но стоя над телом Маяковского десять лет спустя, он прозревает в лице умершего черты детскости, выражение капризничающего ребенка:
Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал. (ОГ III: 16)
Мы помним, что устремленность к сверхчеловеческому, порывание в трансцендентное в глазах Пастернака является детской болезнью, которой нужно переболеть рано — переболеть тяжело, испытав поражение, подобное смерти, — чтобы на всю взрослую жизнь получить иммунитет. Черта, разделившая двух поэтов, проведена, как всегда в критические моменты, с полной решительностью, в словах, заключающих «Охранную грамоту»:
Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без особого труда. (ОГ III: 17)
Та естественность, с какой Маяковский олицетворяет в себе сверхчеловеческое, принадлежащее будущему, оборачивается его детской «избалованностью». Парадоксальным образом, она обрекает его на то, чтобы быть и навсегда оставаться «красивым, двадцатидвухлетним». Впереди его, как Керубино, как Адониса, как вагнеровского Зигфрида, может ожидать только ранняя смерть. Он оказывается неспособен к второму рождению. Прерывисто-молящий призыв «очнуться» Для новой жизни остается не услышанным за presto блестящих трелей.
4. Гибель всерьез
Двадцатые годы (и начало тридцатых) — ярко «экстравертная» эпоха в жизни и творчестве Пастернака, время его наибольшей включенности в современную литературную жизнь в ее внешних проявлениях; эта полоса его жизни, плохо согласующаяся с распространенным образом его личности, прекрасно показана в книге Флейшмана 1980 [2003]. Разом шагнув в первый ряд поэтов пост-символистского поколения на волне двух вышедших практически одновременно (с большим опозданием по отношению к времени их создания) поэтических книг («Сестра моя жизнь», 1922, 2-е изд. 1923; «Темы и вариации», 1923), Пастернак активно сотрудничает с журналами, участвует в литературной полемике, публично заявляет о своей позиции. И само его творчество из глубокой лирической интроспективности выходит в мир субстанциального (хотя и преломленного сквозь призму авторской субъективности) повествования, предметом которого оказываются и индивидуальные человеческие характеры и судьбы, и исторические личности и события. В чисто литературном плане этот поворот проявляет себя в обращении к эпическому стихотворному жанру и к повествовательной прозе.
Вся эта многообразная и зрело профессиональная литературная деятельность проходит на фоне полного замолкания, более чем на десять лет (если считать время написания предыдущих поэтических книг), лирического голоса. Правда, готовясь к изданию сборника стихов в 1928 году, Пастернак подверг радикальной переработке многое из прежде написанного; исчезло даже заглавие первой книги, заменившись рубрикой «Начальная пора». Но характер этих переделок можно определить как сглаживание «гипер-футуристических» черт, характерных в особенности для ранних стихов [206] М. Гаспаров 1998.
, в целом приведшее их языковую и образную стилистику в соответствие с поэтическим языком Пастернака конца 1910-х годов. Главное же — сама действительность, отраженная в этих переделанных стихах, по-прежнему укоренена в прошлом. Лирический субъект Пастернака мог декларировать свою неосведомленность о «тысячелетьи на дворе», но в его восприятии эта тотальная действительность всегда представала в жизненных деталях, неотделимых от конкретных условий места и времени; видимый им мир может быть «задуман чащей» и «внушен поляне», но встреча с этим миром происходит в конкретной ситуации народного гулянья в пригороде в Духов день, и запечатленная картина несет на себе явственные приметы именно этого дня. В этом смысле, лирический субъект переписанных заново стихов оставался в прошлом, не соприкасаясь с миром советской действительности.
Интервал:
Закладка: