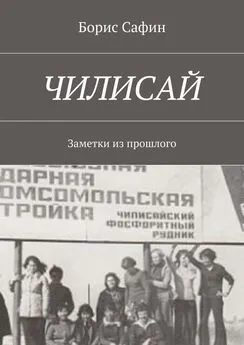Борис Дубин - Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях
- Название:Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-126-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Дубин - Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях краткое содержание
В книге использованы материалы опросов общественного мнения, анализа печати, исследования литературных текстов, кино и проч., данных государственной и ведомственной статистики.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этих условиях первоначальные импульсы и инициативы общественного развития либо хотя бы сдвига – где бы и по каким поводам они ни возникли – должны были рано или поздно столкнуться с более фундаментальной реальностью: системой институтов советского общества и, наконец, с наиболее сложным его институтом (своего рода «институтом институтов») – устойчивой «антропологической» структурой, личностью «советского человека» [2] Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993. (Работа над этим исследовательским проектом продолжается.)
. События последнего, может быть, самого тяжелого за десятилетие, года убеждают в том, что возможности модернизации российского общества и общественного сознания «сверху» и в один прием исчерпаны если не навсегда, то очень надолго. Нет сегодня в России ни такой силы, ни такого института, ни такой фигуры («вождя»), которые проявили бы готовность взять на себя подобную задачу и, что еще важнее, были бы в этом качестве поддержаны значительной по объему или влиятельной по статусу частью населения. Отсутствие в нашем обществе многоуровневой системы «промежуточных институтов», неразработанность собственно публичного плана взаимодействия, согласования целей и интересов ставит под вопрос саму возможность коллективного действия какой-либо группы или структуры, но, как представляется, делает маловероятным и сколько-нибудь эффективное волевое воздействие на ситуацию с чьей бы то ни было стороны.
Чего мы не предполагали и не могли предполагать до тех пор, пока процесс изменений не начался, не пошло реальное разложение существовавшей до этого социальной системы, – это глубинной связи советских социальных, политических, экономических и проч. институтов с типом «человека», а соответственно, со всеми микро– и макро– обстоятельствами его существования, повседневного воспроизводства – в семье, общении, работе, образовании, круге коммуникаций и т. п., включая, казалось бы, самые интимные материи и мотивации. Поэтому первоначальные (времен перестройки и гласности) представления о том, что достаточно реформировать политико-идеологические структуры и Россия войдет в круг «нормальных обществ», постепенно сменились более пессимистическим и трезвым пониманием. В строгом смысле слова, речь не может идти о реформах, поскольку советская система институтов не допускает трансформации (ни революционной ломки, ни эволюционных изменений), если не считать декоративной замены «Верховного Совета» на «Думу», а совдепов на «сенаторов». Поскольку речь заходит об изменениях в фундаментальных структурах данного типа личности, в формах современного социального бытия как такового, то гадать о сроках, характере, реальных действующих лицах, способных осознать глубину идущего кризиса, – занятие сейчас довольно бессодержательное. Во всяком случае, масштабы возможных изменений должны так или иначе захватывать всю многоуровневую систему репродукции – образовательные, семейные, дружеские связи, соответствующие символы, структуры представлений, нормы должного и желаемого, возможного и недопустимого и проч.
Пока же более общие, надпоколенческие по срокам и темпам общецивилизаторские задачи берет на себя т. н. «массовая культура» и воплощающий ее «рынок». Интеллигенция противостоит им – отчасти по недоразумению, отчасти из рессентимента, энергия которого принимается за принципиальность. (Хотя, вообще-то говоря, на развитие общества и культурное обновление «массовая культура» не посягает и никогда не претендовала, а потому в этом качестве она интеллектуалам – не соперник). В то же время рынок, массовое искусство, новые технологии коммуникаций, требующие соответствующего уровня квалификации, социального воображения, коммуникативной пластичности, существенно ограничивают «имперские» стремления интеллигенции ко всеобщей и неконкурентной классикализации (музеефикации) культурного поля. Притязания образованных слоев на монопольное владение безусловными нормами «единственно подлинной» культуры выглядят, мягко говоря, малоубедительными и нерезультативными.
Говоря еще короче, приходится признать, что наступили будни как социального существования в целом, так и интеллектуальной работы в частности. Она, хочет этого кто-то или нет, становится кропотливым, повседневным, прозаическим занятием профессионалов, ведущих разработки в почти нетронутых областях, но в общем проблемном пространстве. То есть, делом самостоятельным по интересам и, вместе с тем, коллективным по форме, более строгим, а потому, если угодно, и более скучным. Для уходящей советской интеллигенции, всегда идейно боровшейся с «повседневностью», «бытом», «рутиной», это испытание, видимо, серьезней, чем для других групп. Ресурсы самооправдания и авторитетности у нее все более ограничены – национальная (в том числе – державная) идея, религиозное «возрождение», духовность, олицетворенная классикой. Все более истерический тон и растущий догматизм суждений значительной части нынешнего образованного слоя заметно превосходят средний уровень массы.
Тем большая нагрузка ложится на образованную молодежь, подготовку специалистов. Прежняя, полуобветшалая сейчас система высшего образования в гуманитарных дисциплинах, социальных науках, экономике, праве и т. д. требованиям современности ни по преподавательскому составу, ни по господствующим представлениям, ни по формам организации знания и обучения, конечно, не отвечает. Регенерировать ее вокруг прежних ретроориентиров – идей «наследия» и «хранения» – вряд ли возможно и нужно. А идея сложности, представление о реальности в многообразии ее здешних и сегодняшних проблем пока не слишком авторитетны в интеллектуальных кругах и в общественном сознании. Это усиливает разрыв между культурой и действительностью, «элитой» и «массой».
30 января 1995Литературная культура: процесс и рацион
Ну и что из того, что, по вашим данным, все хотят это купить? Дать надо взвешенный список. Пастернак, Пастернак… Нужно еще подумать, и очень подумать, стоит ли делать его классиком, может быть, лучше сделать классиком Симонова? Наука – это, конечно, хорошо, но мы-то власть, а власть лучше! И потом, сколько можно говорильни о кооперативных издательствах, Комитет сам издаст все, что нужно, пока бумаги хватит. Это эксперимент? Нет, это прецедент!
(Из кабинетной прозы)С недавнего времени старый вопрос о положении литературы в обществе вновь стал предметом дискуссий. Отличительные признаки современной ситуации – острый книжный голод при видимом изобилии выпускаемой книжной продукции, ограничение возможностей публикации для авторов. Хотя мало кто готов назвать это состояние кризисным, оно едва ли может быть признано удовлетворительным. Мы социологи и поэтому возьмем лишь одну – социологическую – сторону дела: обсудим, какое сообщество людей складывается вокруг и по поводу публикации, распространения и чтения определенных текстов, какая литературная культура формируется таким образом. Эта культура – результат взаимодействия авторов, издателей, критиков, библиотекарей и книгопродавцов, педагогов и читателей. Все они исходят из различных представлений о том, что, собственно, такое литература, различными оказываются и их представления о человеке, его природе, интеллекте, нравственном начале, круге интересов. В конечном счете эти различия определяют работу соответствующих ведомств и организаций, выражающуюся в характере комплектования фондов библиотек, определении тиражей или ассортимента выпускаемой литературы. При этом мнения отдельных людей, от которых это зависит, в значительной степени теряют свою специфичность, исключительность, приватность. Было бы поучительно оценить социальные последствия деятельности какого-нибудь ведомства или министерства, но не с точки зрения ошибок его руководства или грандиозности достижений (которые всегда, бесспорно, есть), а как результат реализации определенной программы, положенной в основу создания этого ведомства, и целенаправленных усилий множества людей и организаций. К сожалению, работ, посвященных такой задаче, нет. Не претендуем на подобный анализ и мы, рассматривая в данной статье лишь некоторые подходы к ее решению. Начнем с характеристики сегодняшнего положения в основных узлах системы книгораспространения, начавшей складываться в 1920-е годы и поставившей перед собою цели, значимые по сей день. Речь прежде всего о библиотеке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



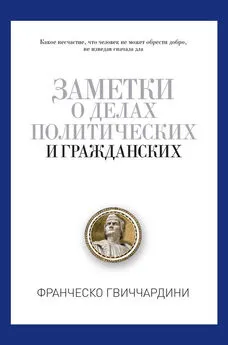

![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/1102321/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik.webp)