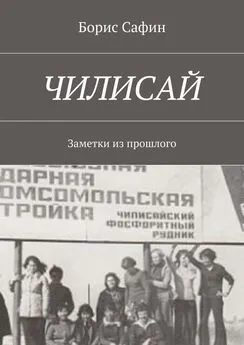Борис Дубин - Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях
- Название:Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-126-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Дубин - Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях краткое содержание
В книге использованы материалы опросов общественного мнения, анализа печати, исследования литературных текстов, кино и проч., данных государственной и ведомственной статистики.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иначе говоря, можно сократить необходимые – по объему публики – тиражи книг, исходя из длины проектируемой очереди читателей, величины вполне исчислимой. В пределе она составляет «глубину» библиотечной аудитории: время хранения книги в фонде (5–7 лет), деленное на срок, полагающийся для ее прочтения каждому абоненту. Главное здесь в том, что базовой формой организации взаимодействия между владельцами книжного ресурса и его потенциальными рядовыми потребителями становится очередь, причем особая, уравнительная, а именно «живая» (рядом с ней, впрочем, есть и другие – например, «по талонам»). Тем самым давление справедливости очереди, ощущаемой потребителем как лишение и ущемление в настоящем, представляет собой способ распоряжения его будущим. Эта-то минимизация требований читателя, планирование впритык и равнение на последнего и представляет собой действительную функцию системы, а нарезание паек у хлеборезки времени – один из немногих ее самостоятельных продуктов.
Паническая консервация книжного ресурса, охватившая библиотеки при возникновении первой же тени заинтересованности в нем других социальных групп, усугубила с середины 1970-х годов дефицитность книг, что, в свою очередь, обострило спрос на них. При этом явственно обнажилась неспособность системы книгораспространения к какой-либо иной тактике взаимодействия с читателем, кроме ужесточения контроля над ним и демонстрации своей доминирующей позиции. Для понимания итогов подобной деятельности укажем, что сейчас в библиотеках записывают на журнальные бестселлеры последних месяцев (намеченные к выпуску книгами в будущем году) в очереди сроком на два-три года, и совет записаться остается единственным и, видимо, последним реликтом традиционной библиотечной рекомендации читателю, венчая многолетнюю работу по руководству его чтением. Как всякая жесткая система регуляции, в условиях напряжения она становится к тому же агрессивной и склонна объяснять собственную ущербность, обвиняя самого читателя в неразвитости, стадности, избалованности, погоне за модой.
В принципе, картина в книжных магазинах такая же, как и в библиотеках, хотя, казалось бы, магазины – не более чем техническое звено в системе книгораспределения, ведь своих фондов они не формируют и впрямую обращены к самому широкому и многообразному читателю. Но и здесь разрыв между объемом того, что годами лежит на прилавках и складах, и количеством книг, которые покупатели ищут и спрашивают, крайне ощутим. Причем сравнение книг, покупательский спрос на которые не удовлетворен, с составом закрытой части библиотечных фондов показывает, что они примерно совпадают.
Год за годом все четче обрисовывается ситуация, когда книги, которые еще недавно хотели взять в библиотеке, теперь все чаще стремятся купить, потому что иначе нет возможности их прочесть. Покупка – страховка в условиях ненадежного обеспечения книгами, своего рода «плата за страх» и планирование затрат с запасом; скажем, это гарантия, что книга, по крайней мере, сохранится для ближайшего потомства. Но и в магазинах больше половины запросов покупателей регулярно не удовлетворяются. По данным сравнительно недавнего опроса, 96 процентов покупателей, то есть фактически каждый, столкнулись с теми или иными «трудностями в приобретении нужной книги». Однако, как и в библиотеках, руководство книготорговлей склонно винить в этой ситуации самого покупателя и видит выход из затруднений в том, чтобы «воспитывать читателя, а не просто торговать».
Напротив, с точки зрения большинства читательских и покупательских групп, выросших в условиях провозглашенной и проводимой государством политики всеобщего и равноправного доступа к культуре, в сознании безусловной ценности книги, нынешнее положение выглядит уродливым и ненормальным. Впрочем, столь же не удовлетворены сложившимся положением и книготорговые организации: у них, хотя и медленно, растут залежи нераспродаваемой литературы.
По самым осторожным и предварительным оценкам, не менее 10 процентов книгоиздательской продукции не находит сбыта даже спустя 3–4 года после выхода. Даже если видеть в этом меру естественного издательского риска, нормой она могла бы считаться лишь для фундаментальной научной литературы, скажем, для классиков науки, которым не грозит старение и скорый пересмотр. Однако в остатки уходит совсем иная продукция – пропагандистская однодневка и плановая обязаловка изданий местного литературного руководства.
Следовательно, система издания и распространения книг в стране, сложившаяся на ранних этапах культурного строительства, во всех ее звеньях и связях не соответствует сегодняшнему положению вещей – новым контингентам читателей, их численности и уровню, их тематическим запросам. Она не в состоянии обеспечить нормальное (не говоря уже о расширенном) воспроизводство культуры (а соответственно и движение общества). Раз большинство действующих в сфере литературной культуры групп, включая авторов – писателей, ученых, не находящих возможности публиковаться, ограничено в реализации собственных символов, то тем самым уже сегодня в определенной мере отсекается будущее этой культурной сферы. Социальные группы, которые сейчас вступают в возраст литературной социализации, дискриминируются. Достаточно не обеспечить книгами подготовительные стадии литературной культуры (попросту говоря, несколько поколений детей подряд) – и можно потерять ее вообще, поскольку утратится и ее авторский состав, и адресат.
Если вернуться к началу 1920-х годов, к периоду, предшествующему тому этапу, когда в ходе различных опытов и реорганизаций была наконец нащупана модель, которая легла в основу нынешней системы книгоиздания, то можно сказать, что это была ситуация, за все истекшее время наиболее благоприятная для автора, да и читателя. После эпохи военного коммунизма начался резкий взлет книгопроизводства (до 60 процентов прироста объемов ежегодно). Многообразие типов издательств (государственных, общественных, партийных, кооперативных, частных, смешанных – всего более 2 000 при нынешних 200) обеспечивало устойчивое превышение предложения над спросом, сравнительно гибкую систему книжного выпуска.
По расчетам составителей первого пятилетнего плана по книгоизданию, к 1927–1928 годам «возможные авторские силы СССР» (ученые, преподаватели, инженеры, писатели, журналисты, публицисты и другие) составляли «максимум 10–12 тысяч человек». Ежегодно в этот период выходило 35–36 тысяч наименований книг, 22 тысячи которых шли через рынок. Подходя с аналогичными показателями к оценке современной ситуации, можно говорить о минимум 700–800 тысячах теперешних потенциальных авторов. Даже при нынешних, не самых благоприятных условиях творческой работы каждый из них, думается, мог бы подготовить одну книгу в два-три года (нормальная продуктивность несколько выше). А это составило бы ежегодно примерно 100–200 тысяч названий книг, если бы издательская система смогла обеспечить этот творческий потенциал технически. Увы, само понимание того, что система не сможет предоставить авторам такой возможности, подавляет творческий импульс многих. Подчеркнем тем не менее, что лишь при реализации, по крайней мере, такого соотношения между авторскими силами и издательскими возможностями могут стать эффективными внутрилитературные, внутринаучные критерии оценки творчества, когда значима чисто литературная или научная шкала авторитетов, устанавливается свой «гамбургский счет», при котором не имеет веса ни кресло, занимаемое автором, ни звонок в его поддержку. Только в таких условиях на автора и может оказывать влияние общее творческое напряжение, возникающее в среде, к которой он принадлежит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



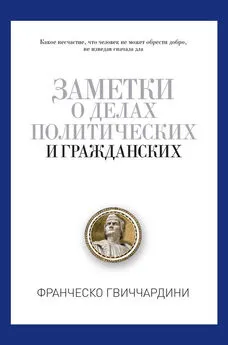

![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/1102321/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik.webp)