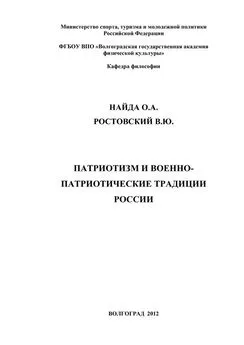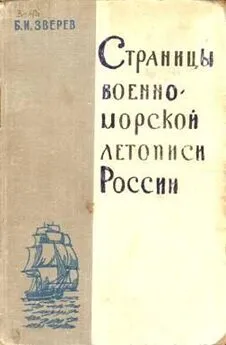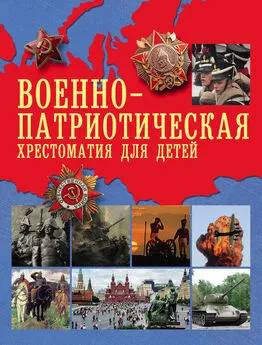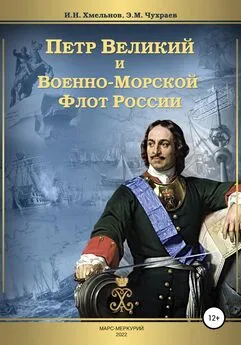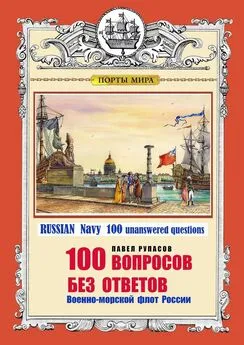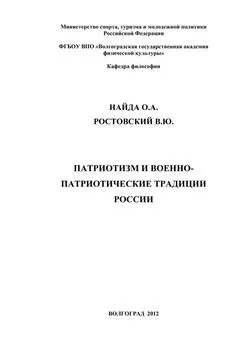В. Ростовский - Патриотизм и военно-патриотические традиции России
- Название:Патриотизм и военно-патриотические традиции России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент БИБКОМ
- Год:2012
- Город:Волгоград
- ISBN:5872
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Ростовский - Патриотизм и военно-патриотические традиции России краткое содержание
Патриотизм и военно-патриотические традиции России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем модернизация российского общества была осуществлена «сверху» в кратчайшие исторические сроки и большая заслуга в этом принадлежит истинным патриотам, занятым в сфере управления. Во многом, благодаря «административному ресурсу», были правильно определены приоритеты в развитии российской экономики и страна, впервые за свою историю, добилась продовольственной независимости, а по такому важнейшему показателю как производство черного металла заняла третье место в Европе. Исходя из принципов меркантилизма, государство строило свою экспортную и импортную политику в области внешней торговли. Серией законодательных актов было защищено молодое российское предпринимательство от конкуренции иностранных товаров. Государственным служащим разных уровней принадлежит решающая роль в развитии образования и просвещения.
Однако реальная роль этой профессиональной группы в преобразовании страны была гораздо ниже её потенциальных возможностей. Обусловливалось это противоречивым положением государственных служащих в условиях самодержавного деспотизма. С одной стороны, на служащих различных уровней возлагался такой объем обязанностей, который был заведомо невыполним 65.
С другой стороны, выстроенная Петром I и его сподвижниками вертикаль власти совершенно лишала государственного служащего реальных возможностей и полномочий выполнить возложенные на него обязанности. Причем, дело даже не в том, что тот же воевода вынужден был заниматься главным сбором податей и повинностей, львиная доля которых уходила в С. -Петербург, а в провинциальной кассе не оставалось сколько-нибудь значимых сумм на местные нужды. Дело в том, что сама система военно- полицейского или «регулярного» государства требовала лишь исполнительности и послушания, и в слепом следовании указам и инструкциям государственный служащий чувствовал себя хоть как-то защищенным от произвола и деспотизма власти. Так, соликамский воевода доносил сенату о том, что «тюремный острог и избы весьма погнили и стоят на подпорах так, что арестанты того и гляди разбегутся, а о строении тюремного острога и изб указом вашего императорского величества, что повелено будет и без указа строить не смею» 66.
В условиях самодержавного деспотизма, который не ограничивался вертикалью «император – шляхетство», но охватывал практически все сферы общественной жизни и существовал на всех уровнях социальной стратификации, личность не могла проявить активность, инициативу, энергию и, главное, способность взять на себя ответственность за принимаемое решение. Как писал В.О. Ключевский, Петр I «хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это загадка … доселе неразрешимая» 67. Вот почему самые назревшие и, казалось бы, очевидные решения давались с громадным трудом, с постоянной оглядкой наверх.
Оборотной стороной творческой ограниченности самодержавной власти выступало беспрецедентное творчество самого императора, вынужденного не только подавать пример инициативы, но и прямо подменять труд и профессиональные обязанности своих подданных. Последнее давало основание для противопоставления патриотизма самого императора и патриотизма других деятелей реформы. «Петр служил своему русскому отечеству, – подчеркивает Ключевский, – но служить Петру еще не значило служить России. Идея отечества для его слуг была слишком высока, не по их гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги» 68.
Отдавая должное язвительной меткости и афористичности суждений выдающегося российского историка, нужно отметить, что сколько-нибудь крупное политическое действие и, тем более, «революция сверху», не могли рассчитывать на успех, имея своим источником волю и энергию одного харизматического лидера, без опоры на его советников, аппарат государственного управления и главного финансиста реформ – трудовой народ. Можно согласиться с упреком В.О. Ключевского в недостатке «гражданского роста» окружения императора. Но вряд ли реально требовать выполнения высоких гражданских обязанностей от подданных, лишенных конституционной и гражданской правоспособности. Ибо дворянство, как привилегированное сословие российского общества в эпоху петровских преобразований, потеряло значительную часть своих прав и свобод. Отношение «крепости» распространилось не только на крестьян и холопов. Служба военная и государственная стала для дворянства бессрочной и обязательной.
В этом смысле совершенно логичной стала новая форма обращения к императору. Вместо «холопы государевы» утверждается подпись: «Вашего величества нижайший раб».
Но при всем торжестве петровского абсолютизма начинает просматриваться тенденция, впервые обнаружившаяся в «Смутное время», управления страной не на основе самовластного деспотизма, а на конституционной и демократической основе. Эта тенденция, исходящая как от ближайших сподвижников Петра I, так и от представителей феодальной аристократии – князей Долгоруких и Голицыных, заявляет о себе в учреждении Верховного тайного совета 6 февраля 1726 г., сосредоточившего все важнейшие функции государственного управления, а также при вручении Анне Ивановне известных «кондиций» 69. Последние представляют огромный интерес не только своими требованиями, но и общей политической атмосферой российского общества. Как доносил Г. Мардефельд – прусский тайный советник, посланник в России своему королю: «Все русские вообще желают свободы, (подчеркнуто мною – О.Н.), но они не могут согласиться относительно меры и качества ее и до какой степени следует ограничить самодержавие» 70.
При этом «верховники» разработали первый проект конституции, предусматривающий создание, кроме Верховного тайного совета и Сената, двухпалатный парламент, который состоял бы из представителей дворянства и городов. Появились и другие конституционные проекты, под которыми подписались свыше 400 дворян 71. Многие авторы справедливо полагают, что события 1730 г. (прошло всего пять лет после смерти первого российского императора) знаменуют начало конституционного и освободительного движения в России 72.
Особую значимость этой попытке ограничения самодержавия придает то обстоятельство, что «верховники» сознательно связывали новую демократическую и конституционную тенденцию со своим пониманием патриотизма. Так, князь Д.М. Голицын пророчески заметил: «Знаю, что буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть: пострадаю за Отечество…» 73.
Тем самым в российском патриотизме выделяются два противоположных начала. Одно было связано с укреплением самодержавно- крепостнических институтов, дальнейшим развитием процессов централизации на общем фоне милитаризации всей общественной жизни, другое – все больше ориентировалось на ограничение императорской власти и обретение основных гражданских прав и свобод. Вот почему политическое содержание российского патриотизма нельзя отождествлять с автократизмом, с его признанием в качестве идеала государства сильной и неконтролируемой власти, исключающей демократические права и свободы граждан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: