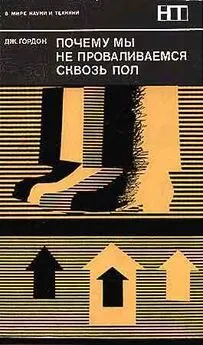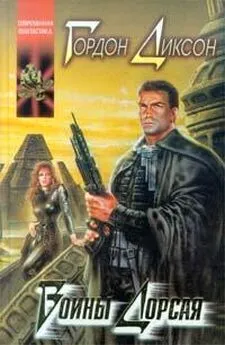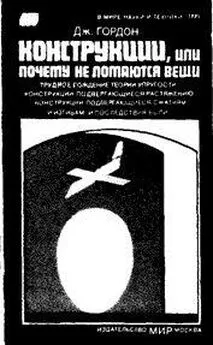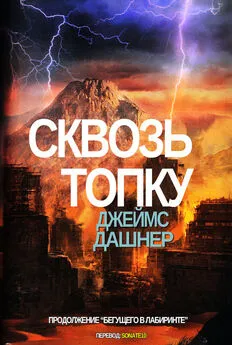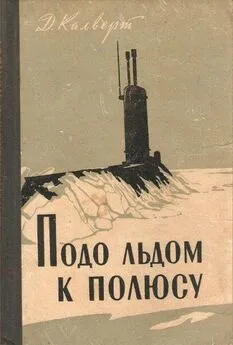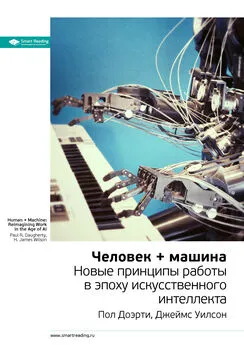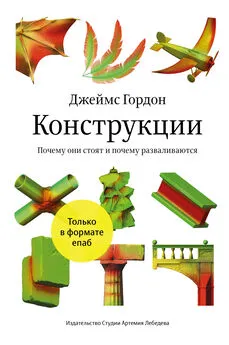Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол
- Название:Почему мы не проваливаемся сквозь пол
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол краткое содержание
Еще в первые десятилетия нашего века ответ на вопросы о свойствах материалов
искали в эксперименте. И лишь последние 40 лет ученые, специалисты в области
материаловедения, стали серьезно изучать строение материалов, убедившись, что
их свойства зависят от совершенства в расположении атомов. Обо всем этом живо и
с юмором рассказывает автор книги профессор университета в Рединге
(Великобритания) Джеймс Эдвард Гордон. Книга рассчитана не только на школьников
и студентов, но и на тех, кого по роду работы интересует поведение современных
материалов и прочность конструкций.
Почему мы не проваливаемся сквозь пол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По-видимому, первое зарегистрированное испытание на растяжение было проведено французским философом и музыкантом Мариной Мерсеном (1588–1648), которого интересовала прочность струн в музыкальных инструментах. В 1636 году Мерсен провел серию испытаний струн из различных материалов; правда, сведений о том, были ли как-то использованы полученные им данные, до нас не дошло.
Насколько я знаю, первое упоминание об объективных механических испытаниях, за которыми последовало практическое применение полученных результатов, датировано 4 июня 1662 года.
Сэр Баттен, Повей и я поплыли в Вулвич, где были свидетелями испытаний голландской пряжи сэра Форда (в последнее время этот вопрос очень беспокоил нас, я сам подумывал о мистере Хью, который поставлял нам канаты и, судя по всему, не справлялся с делом). И действительно, канаты были очень плохими: испытания показали, что пять таких прядей рвутся быстрее, чем четыре нити рижской пряжи. Кроме того, отдельные веревки оказались явно старым хламом, вымазанным дегтем, лишь сверху они были покрыты новой пенькой. Все это походило на неслыханное жульничество.
Экспериментаторы в Вулвиче могли рвать канат, привязав один его конец к какой-нибудь балке вверху, а к другому концу пристроив корытце, в которое можно было класть мерные грузы. Но скорее всего они проводили сравнительные испытания: связывали два каната, которые хотели сравнивать, и рвали эту связку с помощью ворота. Число прядей в каждом канате можно было потом подогнать так, чтобы получилась равная вероятность разрыва обоих канатов.
Испытать канат или проволоку довольно просто, так как их концы легко закрепить, намотав на барабан ворота или лебедки. Закреплять для разрыва образцы других материалов намного труднее, поэтому долгое время испытания ограничивались сжатием и изгибом. Современные испытательные машины имеют захваты, в которых можно закрепить любой металлический стержень и разорвать его. Правда, если взять обычный стержень, такое испытание, как правило, будет неудовлетворительным: захваты повредят металл и вызовут преждевременное разрушение стержня у одного из его концов. Поэтому лучше изготовить специальный образец с утоненной средней частью, такой образец порвется по неповрежденному захватами тонкому сечению. Вообще же, чтобы правильно выбрать форму образца, нужно обладать некоторым опытом и умением, потому что для каждого типа материала должна быть найдена своя наилучшая форма.
Что касается техники испытаний, то, конечно, к образцу можно прикладывать нагрузку непосредственно грузами. Однако разрушающее усилие для обычно используемых образцов лежит между одной и десятью тоннами, а в большинстве случаев испытания проводят девушки-лаборантки. Поэтому нагрузка обычно создается с помощью механического или гидравлического устройства. Промышленность выпускает различные машины такого рода, многие из них в той или иной степени автоматизированы. Все, что должен сделать оператор, это вставить образец, увидеть, как машина порвала его, а затем разделить за фиксированную нагрузку на измеренную площадь поперечного сечения образца. В результате получается разрушающее напряжение.
Разумеется, полученное число ничего не говорит о том, почему материал имеет именно такую прочность и не должен ли он быть прочнее. С другой стороны, прочность любого технического материала практически достаточно постоянна. Поэтому в свое время прочность считали неотъемлемой характеристикой материала, которой он наделен более или менее случайным образом. Металловеды знали, что та или иная добавка или термическая обработка могут упрочнить или разупрочнить сплав, но эти знания были чисто эмпирическими, и наблюдаемые эффекты не удавалось объяснить.
Инженерам нравилось такое постоянство в поведении материалов: их радовала мысль, что каждый материал обладает свойственной ему прочностью, которая может быть определена раз и навсегда, стоит только провести достаточное число испытаний. Еще совсем недавно в лабораториях материаловедения главной заботой было создание блестящих коллекций больших испытательных машин. Результатами испытаний исписывалось огромное множество бумаги, однако знаний о прочности материалов прибавлялось весьма немного. И в самом деле, трудно преувеличить строгость той тайны, которая веками окутывала проблему прочности и разрушения твердых тел.
Представления об атомном строении материи были впервые сформулированы Демокритом (460–370 гг. до н.э.). Затем они были существенно развиты Лукрецием (95–55 гг. до н.э.), намного опередившим свое время. Но эта теория была целиком построена на догадках, об убедительных экспериментальных свидетельствах не приходилось и думать. И все же Лукреций представлял себе существование проблемы сцепления, или когезии, он предположил, что атомы имеют какие-то связывающие их воедино зацепки. Увы, и в середине XIX века мудрейший Фарадей ничего не мог сказать о прочности твердого тела, кроме того, что она определяется сцеплением между его мельчайшими частицами. Он добавлял к этому, что вся проблема очень интересна. Хотя оба утверждения верны, они не многим отличаются от высказываний Лукреция.
В предыдущей главе приводилась таблица реальных прочностей различных материалов. Как и модули упругости, для разных веществ они весьма различны, столь же непостоянны и величины прочности химической связи. Казалось бы, можно предположить, что прочность вещества пропорциональна прочности его химических связей. Однако на самом деле это не так, и именно в этом одно из отличий прочности и жесткости. Действительно, модуль Юнга можно связать с жесткостью химической связи между атомами, но для прочности это, вообще говоря, несправедливо. Связь между атомами железа в стали не так уж прочна - она с легкостью разрушается химически, когда железо ржавеет. В то же время механически весьма непрочная ржавчина (окись железа) обладает прочными химическими связями. Другой пример: металлический магний прочнее, чем окись магния (магнезия), хотя разница энергий связи прекрасно иллюстрируется при горении магниевой стружки в кислороде. Поэтому попытки связать химическую и механическую прочности могут привести к грубым ошибкам. В самом деле, имея сильные химические связи, можно без особого труда сделать очень непрочный (или даже совсем лишенный прочности) материал, но сделать очень прочный материал, располагая только слабыми химическими связями, - нельзя.
Пластики и полимеры, которые вошли в обиход в период между двумя мировыми войнами, были, вероятно, первыми прочными искусственными материалами, вышедшими из химических лабораторий. Их разработка основывалась на довольно естественном предположении об особой прочности этих материалов - химики наделяли их очень сильными химическими связями. В начале второй мировой войны ко мне пришел работать один весьма способный молодой химик академического толка. Тут же он принялся за работу над созданием особо прочного пластика, объяснив мне при этом, что материал должен быть прочнее других, потому что он будет основан на более сильных связях и число таких связей будет больше, чем в любом из существующих материалов. Так как юноша был действительно очень знающим химиком, я ему верил. Так или иначе, для создания этих связей понадобилось очень много времени. Когда синтез был завершен, мы с трепетом извлекли из формы этот стратегический продукт. Но, увы, он оказался не прочнее куска старого засохшего сыра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: