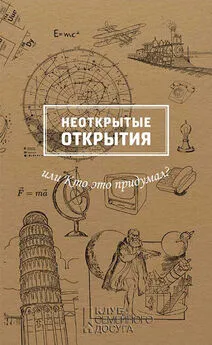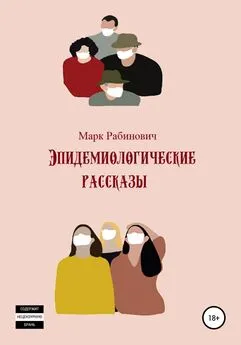Вадим Рабинович - Алхимия
- Название:Алхимия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд-во Ивана Лимбаха
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-180-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Рабинович - Алхимия краткое содержание
Основой настоящего издания является переработанное воспроизведение книги Вадима Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры», вышедшей в издательстве «Наука» в 1979 году. Ее замысел — реконструировать образ средневековой алхимии в ее еретическом, взрывном противостоянии каноническому средневековью. Разнородный характер этого удивительного явления обязывает исследовать его во всех связях с иными сферами интеллектуальной жизни эпохи. При этом неизбежно проступают черты радикальных исторических преобразований средневековой культуры в ее алхимическом фокусе на пути к культуре Нового времени — науке, искусству, литературе. Книга не устарела и по сей день. В данном издании она существенно обновлена и заново проиллюстрирована. В ней появились новые разделы: «Сыны доктрины» — продолжение алхимических штудий автора и «Под знаком Уробороса» — цензурная история первого издания.
Предназначается всем, кого интересует история гуманитарной мысли.
Алхимия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
КАКОЙ ЖЕ ВИДИТСЯ алхимия послеалхимическим наблюдателям? Френсис Бэкон с высоты своего XVII века позволяет себе посмеяться или же попечалиться, глядя на бормочущих вздор, но ищущих истину алхимиков. Но и оценить то, что пошло в дело. «Если же кто-либо, — пишет он, — направит внимание на рассмотрение того, что более любопытно, чем здраво, и глубже рассмотрит работы алхимиков и магов, то он, пожалуй, придет в сомнение, чего эти работы более достойны — смеха или слез. Алхимик вечно питает надежду, и когда дело не удается, он это относит к своим собственным ошибкам. Он обвиняет себя, что недостаточно понял слова науки или писателей, и поэтому до бесконечности повторяет опыт. Когда же в течение своих опытов он случайно приходит к чему-либо новому по внешности или заслуживающему внимания по своей пользе, он питает душу доказательствами этого рода и всячески превозносит и прославляет их, а в остальном хранит надежду. Не следует все же отрицать, что алхимики изобрели немало и одарили людей полезными открытиями» (1938, с. 69–70). Возрожденческая хула уступила место снисходительному сочувствию и заодно кое-какому признанию положительных вкладов. Именно они выуживаются из алхимического мифа, а выуженные, включаются в запасники новой науки. Часть становится целым в меру практической полезности. Оставшиеся части — лишь повод для печальной усмешки. Такой взгляд на алхимию не заказан и поныне. Что же в этом случае происходит с алхимическим мифом? Бесполезная материя превращается в полезное вещество. Это вещество и есть конечная цель алхимических исканий. На этом трансмутация кончается, ибо цель не становится по ее достижении средством. Миф распадается, уступая свое пространство складу положительных знаний для новой науки. Текст, выпавший из контекста, перестает быть текстом культуры, становясь в лучшем случае фразой, вставленной в инокультурный текст [100] Как раз в эти времена особенно весомым в общественной жизни становится тайное сообщество розенкрейцеров, ставящих и алхимические задачи и притязающих на всесилие природознания во имя всечеловеческого блага — преждевременная пародия на новую науку, которая, верно, еще не возникла. Основное призвание сообщества — усовершенствовать все сущее. Розенкрейцеры — достойные обладатели и справедливые распределители всех благ мира. Их зрение всепроникающе. Им внятно тайное тайных природы. Они же — обладатели бывшей, настоящей и будущей мудрости, повелители демонов и духов: они в состоянии притягивать жемчуг и драгоценные камни. Исцеление от всех болезней тоже в их силах. Знание, которыми обладают посвященные, может быть выражено на новом, всем понятном языке. Золото и серебро — разумеется, алхимические — могут быть доставлены римскому императору в несметном количестве. Эта почти новонаучная декларация зиждется на антикатолических, протестантских принципах. Она — детище Реформации. Эти хвастливые притязания адептов Креста и Розы взяты у Габриэля Нодэ из «Наставлений Франции о том, что истинно в истории розен-крейцеровского братства» (Node, 1623) и пересказаны в трактате А. В. Амфитеатрова «Розенкрейцеры» (1896, с. 4–6).
.
Но как же алхимический миф оказался ассимилированным новой литературой, ставши фактом новоевропейского художественного сознания?
ШЕКСПИР (XVI в.). «Жизнь Тимона Афинского». Но прежде обратимся к Марксу, чутко прочитавшему эту шекспировскую драму, включившую в рассмотрение не столько, конечно, алхимию, сколько золото — универсальный трансформатор человеческих отношений. Процитирую вслед за Марксом несколько мест о золоте:
…Тут золота довольно для того,
Чтоб сделать все чернейшее — белейшим,
Все гнусное — прекрасным, всякий грех —
Правдивостью, все низкое — высоким… [101] Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 143.
И далее из фрагмента «Власть денег в буржуазном обществе»:
…Да, этот плут сверкающий начнет
И связывать, и расторгать обеты,
Благословлять проклятое, людей
Ниц повергать пред застарелой язвой,
Разбойников почетом окружать,
Отличьями, коленопреклоненьем,
Сажая их высоко на скамьи
Сенаторов; вдове, давно отжившей,
Даст женихов…
…О милый мой цареубийца! Ты,
Орудие любезное раздора
Отцов с детьми; ты, осквернитель светлый
Чистейших лож супружеских…
Чей яркий блеск с колен Дианы гонит
…ты, видимый нам бог,
Сближающий несродные предметы… [102] Цит. по: Маркс К, Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 617. В примечании к этому месту читаем: «В цитируемом у Маркса немецком переводе Шлегеля и Тика (следует немецкий текст. — В. Р.): «…ты, видимое божество, осуществляющее братание невозможностей».
Золото-деньги есть предмет в наивысшем смысле. Золото — видимое богатство, осуществляющее всеобщее смешение и извращение, «братание невозможностей». Оно, по Марксу, — «отчужденная мощь человечества» 15. Оно же — «всеобщее извращение индивидуальностей» 2в.
Золото претендует на роль самостоятельной сущности, осуществляя мир навыворот, всеобщее смешение и всеобщую подмену, не предполагая человека как человека. Таким образом, золото в качестве денег превращает индивидуальные сущности в их противоположности, творя воображаемое бытие, осуществляя, стало быть, непреодолимый разрыв между бытием и мышлением. Между тем можно было бы принять — и это было бы как будто правильно — золотого тельца Шекспира за всемогущее золото алхимиков, полученное с помощью философского камня, великого трансмутатора всесильных адептов. Он — средство, он же — и цель; равно как и все результаты — и средство, и цель тоже. Здесь же — только средство для вывернутых наизнанку результатов, отчужденных от человека и потому, с точки зрения высоконравственного алхимика, ложных, бездуховных, забывших о своем некогда духовном средневековом прошлом; золото для черных целей; черное средство для черной цели. И потому — уже не философский камень алхимиков, а золотой телец, «желтый дьявол», голый чистоган. Точно схваченная алхимическая мифологема пресуществления = оборотничество, вырванная из исторического контекста, сама трансмутируется в иную мифологему — золото-деньги капиталистического мира стяжаний, «братания невозможностей» в мире мнимых ценностей, корысти и чистогана, населенном отчужденными людьми, когда «все чернейшее становится белейшим». И тогда Шекспи-рово золото — в отличие от алхимического — ив самом деле «не предполагает человека как человека».
Маркс не ограничивается только Шекспировым образом почти капиталистического золота. «Фауст» Гёте (XVIII в.):
…Когда куплю я шесть коней лихих,
То все их силы — не мои ли?
Я мчусь, как будто б ног таких
Две дюжины даны мне были! [103] Там же, с. 617.
Интервал:
Закладка: