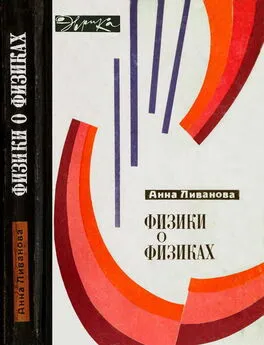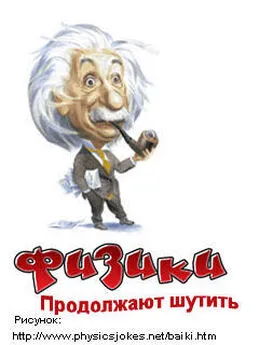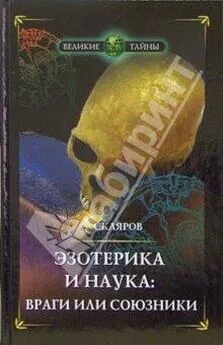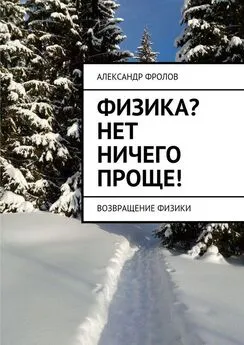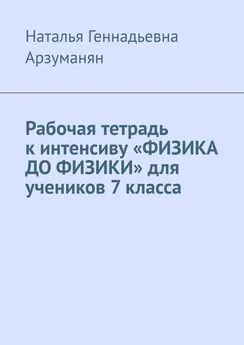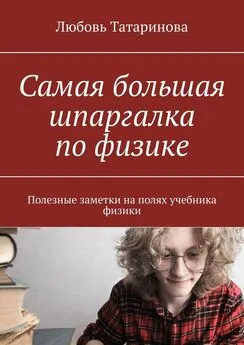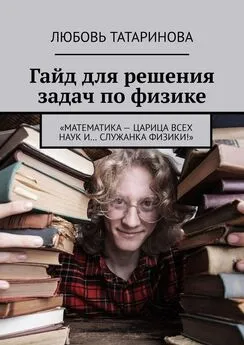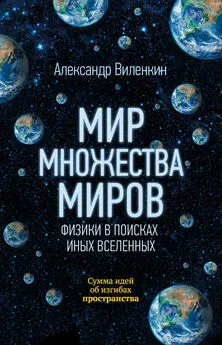Анна Ливанова - Физики о физиках
- Название:Физики о физиках
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Ливанова - Физики о физиках краткое содержание
Их воспоминания о прошедшем, о зарождении и судьбе открытий и о встречах с выдающимися учеными послужили первоосновой, на которой А. Ливанова создала портреты корифеев науки — эти портреты мы и представляем читателям.
Физики о физиках - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А потом, чтобы исключить электроды на концах трубы, в которой заключена плазма, чтобы на них не уходило тепло, Сахаров предложил изогнуть трубу в бублик — сделать ее тором. Но в торе магнитное поле становится неоднородным. Частицы плазмы в неоднородном поле начнут «путешествовать», дрейфовать и уходить на стенки — значит, снова нарушится изоляция плазмы. Тогда Сахаров решил поместить по оси тора согнутый в кольцо проводник и пустить по нему ток. Этот продольный ток снимет дрейф плазмы, а сам проводник, опять же под действием внешнего магнитного поля, тоже превратится в «гроб Магомета» — он будет висеть в торе, не касаясь его стенок.
Такова была «одна идея», о которой сотрудники рассказали Тамму. Игорь Евгеньевич подчеркивает, что идея эта принадлежит Сахарову и вообще с удовольствием говорит, какой Сахаров незаурядный, нетривиальный ученый, необычайно изобретательный, необычайно талантливый…
Эта идея о возможности осуществить управляемую термоядерную реакцию очень воодушевила Тамма, и они вдвоем с Сахаровым принялись все считать.
Расчеты были сделаны быстро и показались убедительными. Тогда решили строить экспериментальную модель термоядерного реактора или МТР, как говорили в то время, — магнитного термоядерного реактора.
Игорь Евгеньевич рассказывал, что их даже несколько удивило, как быстро было получено согласие на эту работу, выделены необходимые средства, материалы. Но потом они поняли, что своей предшествующей работой по делению урана завоевали такой авторитет, что им теперь безоговорочно верят. Тогда тоже необыкновенно интенсивно провели расчеты, и в эксперименте все сразу вышло, все подтвердилось. Вот откуда этот неограниченный кредит.
Вскоре Виталий Гинзбург написал две большие работы, где было собрано все, что к тому времени знали о плазме — о «четвертом состоянии вещества», и проделаны расчеты некоторых процессов в плазме. Прочитав эти работы, Курчатов заметил:
— С ясной головой парень. Здорово пишет. Удивительно описывает эти вещи.
Так прошли последние месяцы 1950 года. А в канун пятьдесят первого Курчатов надолго задержался со своим заместителем Головиным в кабинете. Подводили итоги, думали о будущем.
— Возьмемся и за эту работу! — воскликнул Игорь Васильевич. — Завтра Новый год. Начнем новый год не с оружия, а с МТР. Развернем в нашей лаборатории это дело. Готовьте опыты. Придется привлечь большие силы, придется начинать огромную работу. Ведь это мировая проблема! Огромная! Увлекательная!
А потом настала пора длительных, трудных экспериментов. И с каждым днем вылезали все новые и новые сложности, и становилось очевиднее, что все здесь далеко не так просто и ясно, как было с делением урана, что трудностям поистине несть числа, что высокотемпературная плазма такой орешек, к которому и не подступишься. Мало-помалу все причастные к делу физики начинали понимать, что работа предстоит долгая, что для решения проблемы надо мобилизовывать все большие и большие усилия, больше и больше ученых, что решать ее надо «всем миром» — буквально. Если и удастся ее решить, то это под силу только объединившейся мировой науке.
Вот какие мысли привели Курчатова в Харуэлл.
Ознакомив аудиторию с идеями и результатами расчетов Тамма и Сахарова, Курчатов берет мел и начинает чертить на доске схемы движения зарядов в торе.
А потом, после изложения основных теоретических предпосылок, он подробно, с цифрами и фотографиями рассказывает об одном из направлений наших работ — импульсном разряде в плазме.
Доклад окончен.
Игорь Васильевич внимательно обводит глазами крутой амфитеатр рядов.
Не сразу, долго раздумывая, начинают задавать вопросы. Как русские измеряли температуру в плазме? Уверены ли они, что получают правильную величину? Спрашивают явно по существу дела — ведь заметная термоядерная реакция может пойти только при достижении определенной и очень высокой температуры.
Вопросы переводит англичанин, а ответы Курчатова — Евгений Владимирович Пискарев.
Чувствуется, что хозяева разбираются в предмете, но боятся самой постановкой вопроса дать представление Курчатову о своих работах — настолько «обтекаемо», в самой общей форме спрашивают они об интересующих вещах. Узнать хочется многое, но… осторожность прежде всего.
Однако Курчатов моментально вникает в суть вопроса и отвечает без промедлений, точно и полно. Англичане поражены, как свободно и прямо говорит Курчатов, не делая попытки что-либо скрыть…
Когда по возвращении сотрудники спрашивали Игоря Васильевича, как он сумел ответить на все вопросы, рассказать о всех деталях — ведь он сам непосредственно в этих работах участия не принимал, он отшутился:
— А я как Остап Бендер, каждый раз: e 2 — e 4.
Юмор всегда был ему свойствен, лукавый, но порой и беспощадный, до уничижения.
Курчатов терпеть не мог высоких слов, патетики, сентиментальности. О высоком старался говорить возможно простыми словами. Он любил пародировать штампы, это пародирование даже превращал в свой особый стиль.
— Физкультпривет! — кричал он в трубку, здороваясь со своими сотрудниками. — Ну, что мы сегодня дадим Родине?
Ясно, что физики, даже самые талантливые, не могут выдавать каждый день по открытию — сегодня, и завтра, и послезавтра… Уж кто-кто, а Курчатов отлично понимал это. Но, отворяя дверь в лабораторию, еще с порога вопрошал:
— Открытия есть? — и тон его нередко обманывал некоторых, заставлял их чересчур всерьез относиться к этому постоянно повторяющемуся восклицанию; хотя часто он обращался с таким вопросом именно к тем из сотрудников, от которых открытий и не ждал.
— Ну, отдыхайте, отдыхайте, — кончал он разговор, загрузив собеседника сложной и сверхсрочной работой.
— Ты его «озадачь», непременно «озадачь», — напоминал он, что надо показать задачу теоретику, — пусть попробует разрешить ее.
— Вот человек, не дает мне увлечься! — воскликнул однажды Курчатов полушутя, но не без досады, когда собеседник то и дело прерывал его трезвыми и несколько нудными вопросами и замечаниями.
Но теперь, в Харуэлле, весь он был собран и напряжен как пружина. Конечно, не «e 2 — e 4» услышала от него аудитория. Он должен был рассказать все, что нужно, но все-таки в чем-то удержаться, не сказать больше, чем нужно. Однако, раз он сюда пришел, раз именно он проявил инициативу — от имени нашей страны, от имени наших физиков, от своего имени, наконец, пришел ради великого дела, он раскроет главные карты, положит их на стол — как положил пачки отпечатанных докладов. И он продолжал быстро и четко отвечать на вопросы.
Это, казалось, уже установившееся течение разговора — сдержанный, полунамеком, вопрос и искрометный, но обстоятельный ответ — вдруг нарушилось. Английский переводчик запутался в физических терминах, и Игорь Васильевич, сразу уловив ошибку, тут же по-английски его поправил. В зале раздался дружный хохот. Сквозь официальность и сдержанность, чопорность даже, прорвались дружеские чувства к этому умному, обаятельному и сильному человеку с лучистыми глазами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: