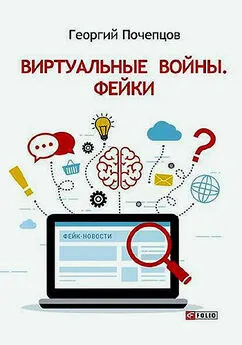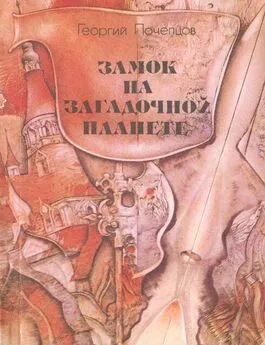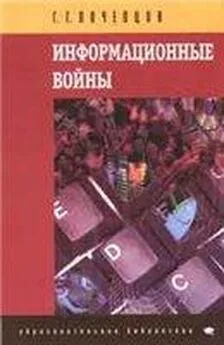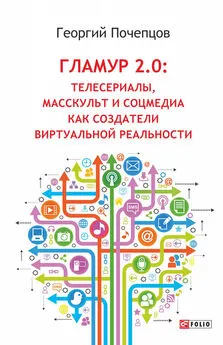Георгий Почепцов - Виртуальные войны. Фейки
- Название:Виртуальные войны. Фейки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Детектор медиа»
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Почепцов - Виртуальные войны. Фейки краткое содержание
Виртуальные войны представляют собой войны без применения оружия. Это делает возможным их применение не только во время войны, но и в мирный период. Виртуальные войны формируют сознание людей, что приводит к трансформации их поведения. Они могут прийти в наш дом как с помощью традиционных медиа, так и через социальные медиа. Эти инструкции по смене поведения могут содержаться в книге, телесериале, песне.
Виртуальные войны. Фейки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сталинское время, особенно кино, породило произведения, которые были достаточно личностно-искренними на уровне воздействия герой-зритель, но принципиально пропагандистскими по всем другим направлениям. «Чапаев» был живым героем, к которому добавили пропагандистский месседж. Сталин подтолкнул Довженко к созданию, по его словам, «украинского Чапаева» — Н. Щорса, который сразу тоже стал реальным героем, не будучи таким в истории, но благодаря качественной визуализации, во многом связанной с симпатичным актером Евгением Самойловым, он и стал героем с памятником в Киеве.
Кино создает социальную память, которая потом остается в головах как настоящая. И такая визуально индуцированная память всегда будет сильнее той, что пришла из школьного учебника (о разграничении понятий история и память см. в [855] Расевич В. Як правильно пам’ятати про вбивць // zaxid.net/yak_pravilno_pamyatati_pro_vbivts_n1459873 .
). В случае Щорса визуальное победило вербальное настолько сильно, что памятник остается стоять, даже при всех попытках сбросить его с пьедестала.
Для детей так писал А. Гайдар, пропагандистский месседж которого был понятен взрослым, но не детям. И подобное расхождение было характерным и для взрослой литературы и кино, где патриотизм был человечным, а не навязанным сверху. Эта личностная линия сохраняет свою силу и сегодня, что позволяет смотреть эти фильмы. Западный зритель и тогда мог смотреть советские фильмы, они могли получать награды на фестивалях, поскольку это был понятный всем, а не идеологический разговор. Свои медиа были ближе и ценнее чужого и чуждого. Это потом любая Анжелика собирала аудитории большие, чем советское кино.
Сегодня нужное программирование поведения прячется за развлекательностью. Советская развлекательность, а она, несомненно, была, иначе в кино бы не ходили, была какого-то другого рода. Назовем ее героической, ведь людям всегда приятно смотреть на действия героев. Вся античная литература — это тоже действия героев, которые иногда позволяли себе даже тягаться с богами, и все ради счастья людей.
Государство получает дополнительные дивиденды отовсюду. Полет в космос поднимал СССР, победы киевского «Динамо» — Украину. М. Галина увидела аспект завышения государства в его фантастике. И это можно интерпретировать как вариант геополитического расширения государства, но в тексте. Галина же говорит: «Фантастика — это жанр, который связан в какой-то степени с претензиями нации на имперскость. Если мы посмотрим на фантастику начала XX века, то увидим, что она манифестирует имперские устремления нации — Киплинг, Уэллс и другие. И в том, что в России фантасты заняли позицию, мягко выражаясь, собирания земель, ничего удивительного нет. Америка — тоже по-своему империя, и там крупнейшие идеологи фантастики занимались воспеванием фронтиры, поэзией фронтиры. Это освоение Луны, освоение Марса, некие новые практики, которые приходят к человечеству путем освоения этих земель. Это та же Урсула Ле Гуин, гуманитарнейший фантаст, с ее „Хайнским циклом“ — огромной космической империей. Это признак страны с имперскими амбициями. И может быть, с имперскими комплексами. Потому что, если ты не можешь что-то выиграть в реальности, если ты не можешь как-то наладить ситуацию, то давайте мы эту психотравмирующую ситуацию перепишем. Давайте попадем в прошлое и выиграем все проигранные войны, исправим все ошибки. И то, что такая сублимационная литература появилась в России лет 15 назад, было уже очень дурным признаком. Мне отвечали: ничего, это только сублимация, все будет в порядке. А это был симптом» [856] Языки врагов? // www.svoboda.org/a/29292363.html .
.
Строился параллельный виртуальный мир, который, естественно, задавая все, предопределял и фантастику. Этот виртуальный мир был призван не только решать проблемы войны и мира, не только задавать правильное поведение, но и компенсировать любые недостатки жизни каждого тем светлым будущим, которое строили для страны и для всего человечества.
Система героики была хорошо структурированной. Дети-герои плавно переходили в героев-взрослых. «Бог» встречался с народом на первомайской демонстрации, ему и полубогам — членам Политбюро несли цветы дети. Настроение счастья пронизывало эту и подобные сцены. И поскольку человек видит только то, на что ему указывают медиа, каждый, кто не испытывал такие чувства, объяснял это тем, что он и все вокруг него является исключением, а правило у него перед глазами.
Медиа (радио, газеты, кино) заменяли реальность. Но каждый человек должен иметь право на реальность, и это должно быть важнейшим правом человека, которого обманывают все государства. Да, мне можно недоплачивать, но нечестно говорить, что я самый обеспеченный человек в мире.
Можно сказать, что сталинская система управляла мечтами людей. Голливуд недаром называют министерством мечты всего мира.
Возможно, в этом корень управления миром. Кстати, Голливуд перечисляется в списке «мягкой силы» США создателем этой теории Дж. Наем.
Но еще до него Сталин управлял мечтами советских людей, причем выстроив более сложную систему, в которой кино было только малой ее частью. И именно мечта, а не реальность делали людей счастливыми. Реальность может прохудиться, мечта — никогда. Мечта кажется нам очень индивидуальной, хотя на самом деле она более чем проста. Есть социальные лифты, которые доступны не всем, но есть и лифт мечты, доступный любому. Каждый, закрывая вечером глаза, видит себя в ином мире, где все его любят и уважают, где он глава всего вокруг. Только в мечте он может стать центром Вселенной, наказывая своих врагов и награждая своих друзей. Сталин реализовал такую мечту в жизни, но больше никому не мог этого позволить.
Сталинскую систему пропагандистских коммуникаций С. Спикер рассматривает как противоречащую постулатам Маклюена. Он отмечает: «Независимость доставки информации от технически-материальных диспозитивов, „антимаклуэнизм“ сталинского дискурса медиа приводит к архаизации или мифологизации. Западные исследования рассматривали функциональную репрезентацию технических медиа сталинского времени почти исключительно под знаком этой архаизации. В контексте такой тенденции медиа-фикции при сталинизме функционируют для западных исследователей прежде всего как символические признаки советской власти. Лишь постепенно начинается исследование более прагматических бюрократически-контролирующих функций медиа в сталинское время и их значения для структуры того, что мы называем советской властью» [857] Спикер С. Сталин как медиум. О сублимации и десублимации медиа в сталинскую эпоху // Сталинская власть и медиа. Под ред. Гюнтера Х. и др. — СПб., 2006.
.
Интервал:
Закладка: