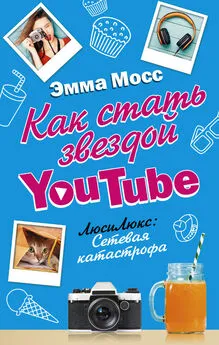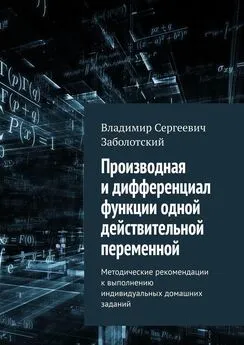Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
графический документ, но становящемся от этого чем-то большим, чем одна из теорий. Тот факт, что мудрецы маори первыми поставили некоторые вопросы и даже разрешили их очень интересным, но не слишком удовлетворительным образом еще не повод, чтобы принять их интерпретацию. Хау — не первопричина обмена, а сознательная форма, в которой люди определенного общества, где эта проблема была особенно важна, восприняли бессознательную необходимость, причину которой надо искать совсем в другом месте.
Итак, в самый решительный момент Мосс засомневался и заколебался. Теперь он не знал, должен ли он принять положения туземной теории и туземные представления о реальности. Отчасти его правота несомненна: туземная теория гораздо теснее связана с туземной реальностью, чем теория, выработанная на основании наших категорий и проблем. В тот момент, когда он писал книгу, огромным прогрессом был уже и сам подход, когда этнографическая проблема изучалась не с помощью западных понятий анимизма, мифа или партиципации, а исходя из новозеландской или меланезийской теории. Однако теория остается теорией, будь она туземной или западноевропейской. Максимум, что она дает, — это некоторый путь, подход, ибо верования заинтересованных в ней людей, будь то австралийцы или жители Огненной земли, всегда очень далеки от того, что они думают или делают на самом деле. Выявив туземную концепцию, надо подвергнуть ее объективной критике, позволяющей достичь реальности, лежащей в основе теории. Реальность мы имеем гораздо больше шансов найти не в сознательных умопостроениях, а бессознательных ментальных структурах, к которым можно добраться, исследуя общественные институты, а еще скорее мы найдем ее в языке. Хау — продукт туземной рефлексии, но реальность наиболее очевидна в некоторых лингвистических моментах, и Мосс не забыл учесть их, хотя и не придал им должного значения: «Папуасы и меланезийцы, — замечает он, — используют одно и то же слово для покупки и продажи, ссуживания и заимствования. Антитетические операции обозначаются одним словом». Кажется, этого достаточно, чтобы доказать, что вышеупомянутые операции не только не «антитетичны», но и представляют собой два модуса одной и той же реалии. Для обобщения не нужно понятие хау, поскольку антитезы не существует. Это просто субъективная иллюзия этнографов, а иногда и туземцев, которые, рассуждая о себе самих, а это бывает довольно часто, ведут себя как этнографы, точнее, как социологи, то есть как коллеги, с которыми вполне позволительно вступить в дискуссию.
Тем, кто упрекнет нас в излишне рационалистической интерпретации мысли Мосса и в том, что мы пытались реконструировать ее, не обращаясь к магическим или аффективным понятиям, появление которых на страницах книг Мосса кажется нам остаточным явлением, мы ответим: стремление понять социальную жизнь как систему отношений, вдохновляющее «Очерк о даре», явно проявилось у Мосса уже в начале его карьеры, в книге «Набросок общей теории магии», открывающей этот том. Он, а не мы, утверждал, что магический акт необходимо рассматривать как суждение. Мосс ввел в этнографическую критику фундаментальное различение между аналитическим и синтетическим суждением; философское происхождение этого различия обнаруживается в теории математических понятий. По-видимому, у нас имеются основания полагать, что, если бы Мосс мог воспринять проблему суждения иначе, нежели в терминах классической логики, и сформулировать ее в терминах логики отношений, то вместе с представлением о роли связки рухнули бы и понятия, держащиеся в его аргументации только на ней. Мосс формулировал это в явном виде: «Мапа <...> играет роль связки в предложении»), то есть мапа в теории магии и хау в теории дара».
* * *
Двадцать лет спустя аргументация «Очерка о даре» (по крайней мере, в начале книги) воспроизводит аргументацию «Теории магии». Это оправдывает включение в данный сборник работы, в отношении которой, только учитывая дату написания (1902 г.), можно удержаться от несправедливых оценочных суждений. В ту пору сравнительная этнология по большей части еще не отказалась, во многом по вине самого Мосса, как он вынужден был признаться в «Очерке о даре», «от постоянного сравнения, в котором все перемешивается, социальные институты теряют свой местный колорит, а документальные свидетельства становятся безвкусным наполнителем». Лишь позднее он будет уделять внимание обществам, «действительно представляющим собой крайности, позволяющие видеть факты лучше, чем те, где эти факты, будучи не менее важными, остаются в еще неразвитом или в вырожденном состоянии». Однако для понимания истории развития концепции Мосса и выявления некоторых ее констант «Набросок» имеет исключительную ценность. Это верно не только для понимания мысли Мосса, но и для изучения истории Французской социологической школы и определения точных отношений между мыслью Мосса и Дюркгейма. Анализируя понятия мапы, вакапа, оренды, воздвигая на их основе интерпретацию всей системы магии и добавляя к последней то, что он рассматривал как фундаментальные категории человеческого духа, Мосс предвосхитил строение и некоторые выводы «Элементарных форм религиозной жизни», написанных десять лет спустя. Таким образом, «Набросок» показывает, как много Мосс дал мысли Дюркгейма; он позволяет восстановить кое-что из этого тесного сотрудничества дяди и племянника, не ограничивавшегося областью этнографии, ибо известно, например, какую роль сыграл Мосс в подготовке «Самоубийства».
Но нас, прежде всего, интересует логическая структура этой работы. Она полностью основана на понятии мапы, и мы знаем, сколь много воды рассуждений на эту тему утекло с тех пор. Чтобы снова войти в эту реку сегодня, надо рассматривать «Набросок» совместно с результатами новейших полевых исследований и лингвистического анализа [1167]. Кроме того, различные типы мапы надо дополнить, введя в эту обширную, но не очень гармоничную семью понятие, весьма распространенное среди туземцев Южной Америки, некоей мыслимой как субстанция и обычно негативной мапы: это текучая материя, управляемая шаманом, зримо оседающая на предметах и вызывающая перемещения и левитацию. Ее действие, как правило, считается вредным. Это тсарума индейцев живаро, панде, представления о которой у индейцев намбиквара мы изучали сами29, и аналогичные им формы, существующие у индейцев амниапа, апапокува, апинайе, галиби, чикито, ламисто, шамикуро, шеберо, ямео, икито и т. д.3() Чем заменится понятие маны после такой постановки вопроса? Сложно ответить. Во всяком случае, оно будет профанировано. Дело не в том, что Мосс и Дюркгейм, как иногда утверждают, ошиблись, сблизив понятия, заимствованные из слишком далеких миров, и определив с их помощью единую категорию. Даже если история подтверждает результаты лингвистического анализа и полинезийский термин «мана» является далеким откликом индонезийского термина, обозначающего действенность персонифицированных божеств, отсюда никоим образом не следует, что понятие, выражаемое этим термином в Меланезии и Полинезии, является остаточным явлением или следом более разработанной религиозной мысли. Несмотря на все местные различия, кажется вполне обоснованным, что мана, вакан и оренда суть объяснения одного и того же типа. Значит, вполне оправданно было бы установить этот тип, попытаться классифицировать и анализировать его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: