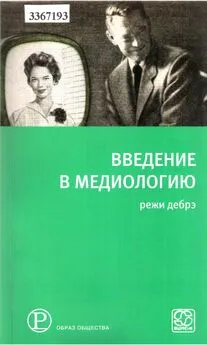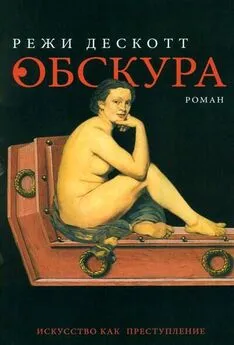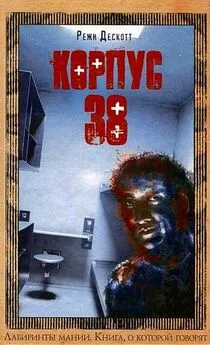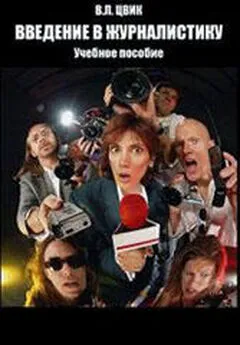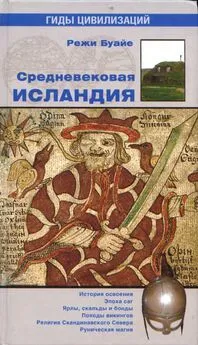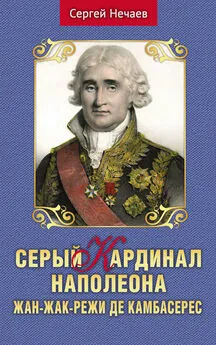Режи Дебре - Введение в медиологию
- Название:Введение в медиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-901574-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Режи Дебре - Введение в медиологию краткое содержание
Целью медиологии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, как и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета.
Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни.
Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе.
В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может - то тут, то там - осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой, не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.
Введение в медиологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нельзя ли определенно утверждать, что крах техноутопистов и уныние технократов происходят от переоценки медиума при недооценке среды ? Тут нет ничего удивительного, потому что закон среды гласит, что среды у нас нет (ведь среда есть как раз то, к чему мы слепы до тех пор, пока работа по объективации не трансформирует среду в некое внешнее и видимое «поле»). Виктор Гюго ожидал от весьма ошеломляющей железной дороги Париж—Берлин, что она сделает невозможной войну между галлами и пруссаками; Пруссия же победила в войне 1870 г., воспользовавшись этой линией для концентрации войск. Как общее правило, применение бывает архаичнее, нежели материал и способ его применения. Если медиум является динамичным, то среда неумолимо ретроградна. Это палимпсест с тяжелыми линиями импульсов и повествований, испугов и надежд, откладываемых в нас всеми техническими эпохами; это букет разрозненных ритмов и приспособлений. Я — брошюра из папируса, пергамента, бумаги и экранов. Я без стыда насаживаю свою катодную трубку на стопу бумаги, и свою податливую школьную тетрадь на каменные Скрижали Закона. Я — псалмы и рок, ползущий и летающий, пиктограмма и гипертекст. Всякий современник представляет собой хронологическую неразбериху, хаотическое нагромождение вращающихся медиасфер, ведущих переговоры между собой, а в нем самом эти медиасферы без протокола, в зависимости от того, который час наступил, занимают место, предоставляя ему компанию и выполняя неотложные надобности. Компания «Эрбас» превратила Францию в шестиугольник [le Hexagone] [131] Метафорическое название Франции ( франц .). — Прим. пер.
, каждую из сторон которого можно пролететь за полтора часа; автодороги стирают границы между странами Европы; но изготовленной из минерала табличке с названием моей кафедры — два столетия, а рядом записано время в пути на лошади (до любого крупного города можно добраться за день в конном экипаже). Мы играем в салочки [chat perché] [132] Игра, когда бегущего нельзя преследовать, если он на что-либо взобрался ( франц .). — Прим. пер.
, с нашим оборудованием, одни из нас играют с другими, мы играем с пространствами и временами, не задумываясь об этом. И вдобавок, игрок не находится вне игры. Не только мы эволюционируем в более или менее неблагодарной семиосфере, но и она эволюционирует в нас. Я не нахожусь к ней анфас, я не за и не против нее, подобно капитану на судне. Моя среда обитания живет во мне. Не будем же говорить: «Я обладаю окружающей средой», но будем говорить: «Я и есть окружающая среда». К счастью, она вкладывает несколько медиасфер в одну (я — и велосипед, и автомобиль, и самолет, я — гусиное перо и телефон, CNN и CD-ROM) — что наращивает мои степени относительной свободы. Но это внешнее проницает меня изнутри.
Именно здесь теоретическая экология может служить средством побуждения (а то и парадигмой) — и как раз это нам предлагает Моника Сикар [133] Monique Sicard, «Eco-médio, la paire imparable», Cahiers de médiologie , no. 6, p. 83-93, Éd. Gallimard.
. Хотя у нас и нет одних и тех же устройств для проведения экспериментов, наука о доме ( oikos по-гречески [134] Имеется в виду экология. — Прим. пер.
) приглашает нас не только осмыслить среду как систему (эволюционирующую); видеть в ней «не только вектор переноса, но и глубинную отделку культур, географий, институтов, политик, техник» (Моника Сикар). Экология учит нас также заставлять следы говорить, примиряя поверхность с глубиной, а простоту со сложностью. «Для современной экологии поверхность планеты предстает как ряд сигнальных табло, которые необходимо понять как этап, взятый из эволюционного ряда. Так, всякое растение дает меру условий, в которых оно растет. И наоборот, оно является показателем почвы и климатов (макро- и микро-), индикатором поведения других растений и животных в тех же местах». Превосходный инструмент! Это надо понимать так: нет никакого толку подробно изучать общий или местный климат, составлять полный каталог сообществ животных и растений, чтобы понять природную систему. Дайте показатели для характерных растений, и они дадут вам остальное. Почти все остальное. Не только прошлое, но и — грандиозное приобретение — будущее живого сообщества. «Мысль о сложности также — с необходимостью — является практикой простоты» [135] Ibid., р. 89.
. Медиасфера представляет собой динамическую систему (сложных) экосистем, реорганизованных господствующим (простым) медиа (или вокруг него), как правило, последним по хронологии.
Когда мы изучаем отношения конгруэнтности или несовместимости между той или иной популяцией ценностей (христианство, экзистенциализм, коммунизм и т. д.) и тем или иным вектором их распространения (аудиовизуальная сфера недружественна к критическому рационализму, который расцветает в книгопечатании, каковое не доверяет харизме и слиянию), обнаруживается, что среда — нечто гораздо большее, нежели инертное пространство, нежели задник сцены или окружающая среда предметов. Дело не в том, чтобы предмет вообще сводился к своей материальности. Психоанализ научил нас, в какой степени объект может поддерживать аффективные инвестиции — вплоть до того, что он переживается «как составная часть субъекта». «Грубо отнимите у кого-нибудь его одежду, дом и все предметы, в нем содержащиеся, — замечает Серж Тиссерон, — и вы, вероятно, вызовете у него неполадки с идентичностью (если он решит намеренно оторваться от этих предметов — другое дело, потому что тогда ему понадобится время на то, чтобы постепенно убрать свои психические инвестиции). Человеческое существо знает, что его физическое существование неотделимо от природной среды. Ему остается осознать, что его психическое существование неотделимо от среды окружающих вещей, иначе говоря — от его техносистемы» [136] Serge Tisseron, Comment l'esprit vient aux objets , Augier, 1999. См. также Abécédaire médiologique, его статью «Environnement», in Cahiers de médiologie , No. 6. Éd. Gallimard.
. Если мы это утверждаем, то всеобъемлющая глобальность всякой среды обитания обязывает нас решительно отказаться от оппозиции субъект/объект, личное/безличное, сингулярное/общее. Пока еще мы чересчур являемся заложниками философий субъекта, чтобы суметь примирить cogito и сосуществование и признать, что мы не одни на борту (и чтобы делать то, что мы делаем; и чтобы быть тем, что мы суть). От наших инструментов описания ускользает этот фон обыденной имманентности, повседневной снисходительности, в который мы волей-неволей погружаемся. Структурирующая нашу грамматику линейность «подлежащее-сказуемое-дополнение» не предрасполагает к этому. Такова для нас латентность практической среды, которая скрыта, а не выставлена напоказ до такой степени, что для того, чтобы получить возможность спросить о том, исходя из чего мы ставим вопросы, и понять то, что охватывает нас «в исчезающе-всеохватном модусе» (Франсуа Жюлльен), в предельном случае нам потребовалось бы мыслить технологию так, как мы привыкли мыслить космологию. Мысль пока немыслимая для нашей западной гордыни; может быть, какое-то предощущение (а иногда одновременно и завершение) ее нам дает китайская мудрость в ее неуловимой странности [137] François Jullien, Procès ou création , une introduction à la pensée chinoise , Éd. du Seuil, 1989.
. Может получиться так, что «отставание» от Запада, некогда постигшее Восток в причинно-следственной и аналитической мысли, дает последнему известное преимущество, позволяя понять зависимость от мест и сред.
Интервал:
Закладка: