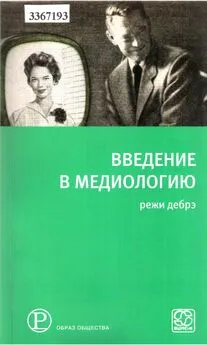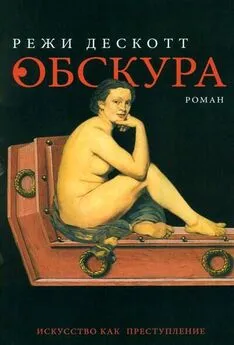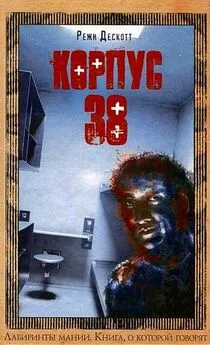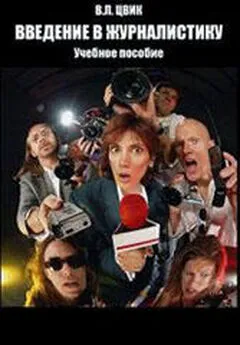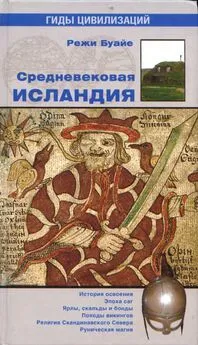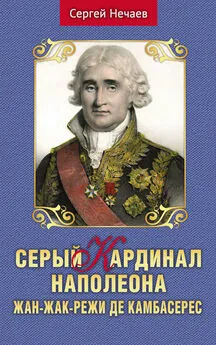Режи Дебре - Введение в медиологию
- Название:Введение в медиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-901574-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Режи Дебре - Введение в медиологию краткое содержание
Целью медиологии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, как и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета.
Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни.
Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе.
В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может - то тут, то там - осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой, не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.
Введение в медиологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отвергая клонящие в сон причинно-следственные связи нарциссизма Разума, как и великие противопоставления схоластической традиции (буква против духа, внутреннее против внешнего, основание против инструмента), наш метод интегрируется в современное движение антропологии наук, которая склонна согласовывать наше пользование логикой языка с нашей интеллектуальной и материальной оснасткой (когда каждый термин продолжает другой). То, что способствует объективации разума — в социоинструментальном оркестре институционализованного поля знания, — располагает разум как бы за пределами рассуждающего субъекта. Такая экстравертность, или взаимовложение «разум/сеть», оскорбляет наши наилучшие привычки. Обобщенно говоря, нам следует преодолеть значительное запаздывание слов по сравнению с вещами. Инстинктивно мы продолжаем принимать техносферу XXI в. в интеллектуальные формы и категории, придуманные в Греции в VI в. до н. э., наиболее устойчивыми из которых остаются для нас следующие пары статусных оппозиций — логос/технэ , природа/артефакт, содержимое/ содержащее, внутреннее/внешнее, субъект/объект и т. д. — машинально управляющие умами, но как раз этим категориям мы обязаны известным интеллектуальным удобством. Здесь стоит отдельно рассмотреть Гегеля, уникальный случай абсолютного идеалиста, великолепно разорвавшего узы собственной традиции. Так, гегелевская «Эстетика» зиждется на типологии отношений выразительности между материальным и духовным (от архитектуры до музыки), а его «Логика» — на существенном тождестве внутреннего с внешним. Если отвлечься от этого восхитительного исключения, то западная мысль осведомлена об эллинской иерархии, и как раз с таким наследственным дуализмом, весьма заметным в определенном философском бессознательном, медиолог должен порвать, чтобы без робости и запоздания подходить к феномену культуры.
«Техника: одно из тех многочисленных слов, история которых не написана. История техник: одна из тех многочисленных дисциплин, каковые необходимо создать полностью...» — сетовал Люсьен Февр перед войной [261] Les Annales, novembre 1935.
. Кто не мог бы сказать, что философ пользуется такой дисциплиной, для которой техника с самого начала была «проклятой долей» [262] Намек на знаменитую одноименную работу Ж. Батая. — Прим. пер.
, вытесняемой, а то и исторгаемой? А историк обществ весьма нехотя говорит о хомуте, руле, часах, водяной мельнице — и тем более историк идей — о тростниковом пере, древесной массе и лучах Герца. Истоки обязывают. Причины греческого презрения или безразличия к технике прослежены уже достаточно [263] Pierre-Maximilien Schul, Machinisme et philosophie, Paris, 1938; François Dagognet, L’invention de notre monde: l’industrie, pourquoi et comment ?, Encre marine, 1995.
. Или же, точнее говоря, постольку, поскольку солнечный циферблат, клепсидра и Архимедов винт являются изобретениями классической Греции, речь идет об отказе греческой мысли от унижения собственной культуры машинами: о сакрализации Природы, которая рассматривает артефакты как в каком-то смысле святотатство (это табу отчасти снято иудео-христианским миром, для какового природа — уже не творческое начало, но сейма создана Богом); отсюда проистекает предпочтение по отношению к неизменному по сравнению с факторами изменения; вездесущность рабской рабочей силы, которой достаются орудия труда, оставляла свободным людям привилегию схоле , обучения как досуга, и словесного искусства; недоверие к внешнему (двигатель человека инкорпорирован в него, но двигатель машины ей не принадлежит). Для Платона (у которого не было снисходительности Аристотеля к земным вещам) тело целиком относится к низу, оно — цепи и чернота, погибель и могила. Платоническая аскеза обязывает душу «прогуливаться самой по себе, будучи полностью отделенной от тела, как если бы она была узами для тела» («Федон»). В этой схеме материя, по существу, является злом. А душа — наш единственный шанс избежать зла. Здесь в нашем бессознательном и мифологическое препятствие № 1, и подлинная линия разделения догматов. Философы, верующие в бессмертие души, могут сколько угодно презирать технику — каковая, как недавно разъяснил Бернар Стиглер, в конечном счете представляет собой способ, с помощью которого мы избавляемся от пут времени — прошедшего и будущего, отзвуков и предвосхищения [264] Bernard Stiegler, La technique et le temps, 2 vol., Galilée, 1994 et 1996.
. Всякий спиритуализм есть в лучшем случае безразличие к технике, а то и технический пессимизм (Эллюль). Зато у тех, кто не прибегает к помощи эсхатологии, нет другого способа попытаться выжить, кроме объективации. Сегодня множество материалистов-технофобов и те, кто никогда не читал речей Диотимы (души пьют воды Леты перед тем, как вернуться на землю), разделяют теорию припоминания Платона, не ведая об этом. На свой лад подобные атеисты всегда верят в божественность души.
Как мы видим, для «друзей Идей» сопротивление медиологической перелицовке основано на Разуме и Мифе. И не только потому, что медиология понижает уровень возвышенных тем, раскрывая объятия для тривиальных и интеллектуально недостойных предметов (велосипед, бумага, дорога, телеуправление или портативный приемник), и собирается «резвиться» в весьма темных индустриальных предместьях, где философы редко избирают местожительство [265] François Guéry, La société industrielle et ses ennemis, Orban, 1992.
. Но еще и потому, что методичное применение кратчайших «проселочных» дорог и спрямлений спутывает традиционные координаты и бодро пробегает сквозь рубрики, каковые схоластическое зонирование изо всех сил (и успешно) старалось отделить друг от друга. Сбой неоспорим. Диагональ сочетает между собой поля, которые с незапамятных времен предпочитали не обращать внимания друг на друга. Набросок материальной истории абстракции или же организационной истории интеллигенции обязывает не только к сносу перегородок, но и к перестановке тонического ударения, вопреки здравому смыслу.
Если претендент-медиолог метит не так высоко, как чемпион-семиолог, который действует в рамках раскроя, унаследованного от логоцентризма, то его «низкий полет» предусматривает большую отвагу, так как он подрывает распорядок логоцентризма (семиолог утончен; медиолог смел). Один пример. Что обычно говорит интеллектуал об интеллектуалах? Что это люди идей и ценностей, одиночки, обращенные к абстрактному, без чрезмерно земной заботы об эффективности. А что говорит здесь медиолог? Что интеллектуал с самого рождения в виде клирика в христианское Средневековье — в противоположность монаху-созерцателю — является посредником между человеком и человеком. У интеллектуала есть некий проект влияния. Это — оперативное, а не субстанциальное определение. Каково действие, свойственное этому городскому оптимисту (рожденному вместе с городом и действующему в городе), проповеднику/доктору/профессору/публицисту (чрезвычайно склонному к общению, а не одинокому, как богомолец или поэт), всегда являющемуся членом какого-то института или корпорации (церковной, монархической, университетской или медиатической), или связанному с такими институтами или корпорациями; реализующему некий проект или занимающемуся воспроизводством власти? Управлять сознанием других, а не заботиться ни о спасении своей души, ни о поисках истинного или благого (в отличие от ученого и художника). Таково ремесло управления. Что такое управлять? Внушать веру (говорят Гоббс и Черчилль). А как внушить веру? Проводя коммуникацию. А еще щедротами. Это sine qua поп [266] Непременное условие ( лат .) . — Прим. пер.
. Техник дискурса (или торговец словами) приспосабливает свои таланты и характер к имеющимся в наличии средствам коммуникации — он считает, что переговоры можно вести обо всем, кроме доступа к его средствам управления (это подтвердилось в годы Оккупации: приоритет носителям). Средства управления развиваются в ходе истории вместе с усилителями речи: кафедрой, эстрадой, трибуной, печатной мастерской, студией и т. д. Где — как мы видим — в каждую эпоху происходит перегруппировка западного Homo medium (который связывает великие принципы с текущими событиями, а ценности с днями, оценивая вторые в свете первых)? Вокруг вектора наиболее благоприятной амплитуды. Череда выразителей влиятельных мнений на протяжении одного столетия, нашего, осуществляет смещение центра тяжести «духовной власти» (Огюст Конт) и паломничеств гегемониальных интеллектуалов (Антонио Грамши) с университетского очага (1870-1920) на издательский очаг (1920-1970), а затем на очаг массмедиа (1970-2000). Наблюдаемый в течение длительного периода (по поступкам, а не по речам), политик мысли, каким является интеллектуал, оказывается столь же акустически зависимым, как и просто политик: он направляется туда, где слово «несет содержание», и может лучше всего размышлять о «людях, идущих в счет». Интеллектуал, прежде всего, является человеком эффективности, интеллект приходит после (вопреки видимости, интеллект интеллектуалу определения не дает [267] См. Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Ramsay, 1979.
). Вполне возможно, что этот способ рассмотрения — несмотря на видимость — причастен к расколдовыванию мира...
Интервал:
Закладка: