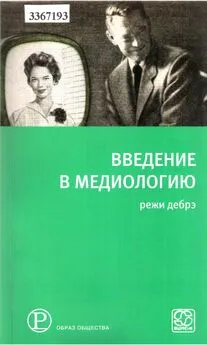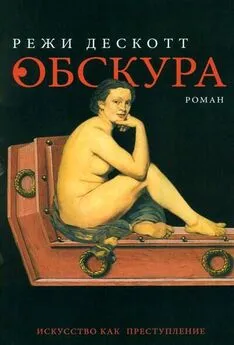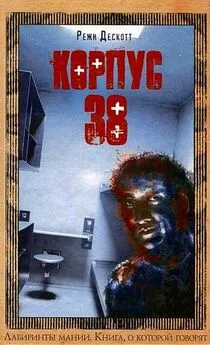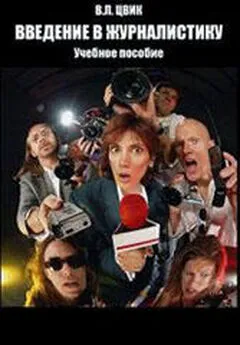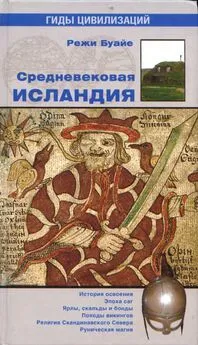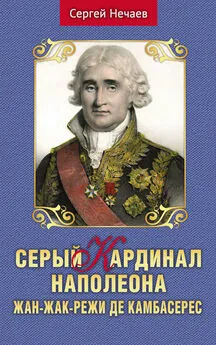Режи Дебре - Введение в медиологию
- Название:Введение в медиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-901574-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Режи Дебре - Введение в медиологию краткое содержание
Целью медиологии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, как и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета.
Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни.
Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе.
В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может - то тут, то там - осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой, не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.
Введение в медиологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Записной» гуманизм в теоретическом смысле слова разнообразен в своих перипетиях, но постоянен в правилах. Интрига вызывает столкновение двух антагонистических полюсов — субъекта и объекта. Первый представляет собой негативное явление по отношению ко второму, его пагубную изнанку и всегда затаившегося врага. Эта антиномия является радикальной. Мир вещей подчиняется господству необходимости , мир духа есть средоточие свободы. Внешнее — это раб, это локус всевозможных детерминизмов (технические принуждения, социальные структуры, природные силы). Внутреннее автономно, это место эмансипации (интеллектуальные суждения и моральные решения). Всякий раз, когда внешнее побеждает внутреннее, человек «овеществляется» (= становится вещью) или же «отчуждается» (= становится чужим самому себе). Тогда он утрачивает духовную независимость и умение. Чтобы обрести безусловную суверенность, ему необходимо оторваться от зачарованности, от привязанности к кускам воска (Декарт) и вернуться bei sich [19] Имеется в виду изобретение письма. — Прим. пер.
, в свои края, в самого себя («Возвратись в самого себя, Октав, и перестань сетовать...»). На основе этой известной с незапамятных времен драматургии можно сформировать широкое разнообразие антитез: человек против машины (или «Франция против роботов»). Экстериорность против интериорности. Артефакт против природы. Ненужный излишек против изначально необходимого. «В-себе» против «для-себя». «Иметь» против «быть». Пассивное против активного. Застывшее мертвое против подвижного живого и т. д. Эти бесчисленные варианты, более или менее патетические, считают заданным фактом, что субъект конструируется с изнанки объекта и против него (подобно тому, как культура — против индустрии).
Вслед за открытиями и приобретениями палеонтологии человека (Леруа-Гуран) мы намеренно выступаем против этого философского сценария, унаследованного у изначального идеализма. Для нас человеческий субъект строится вместе с объектом и при помощи объекта, в непрестанном маятникообразном движении. Ибо объективация субъекта, к счастью, преодолевает его. Именно превращаясь в чувствительную материю, например, в надписи, наша мысль выставляет себя на всеобщее обозрение и становится противопоставляемой самой себе и всем остальным. Уединенный дух чахнет и умирает; он оживает посредством буквы, которая оплодотворит, в свою очередь, и другие умы — находящиеся на расстоянии или в грядущем. Объект представляет собой условие возникновения субъекта, «объективное трансцендентальное» «человечественности» [hominité] (Мишель Серр). Драма животного, или, скорее, отсутствие у него истории и драмы, происходит от того, что оно не может выйти за пределы самого себя. Его «артефакты» — гнездо, термитник, логово — остаются неотъемлемой, неотделимой частью его экологической ниши. Лишь человек может расположить изготовленный объект за пределами этой ниши, убрав его из сферы своего непосредственного существования — объект независимый, подвижный и взаимозаменяемый с другими (Франсуа Дагонье).
Объект отличается от вещи , каковая является тем, что человек не задумал и не изготовил. Чтобы не поддаваться расистскому отбрасыванию «как-бишь-его» («все желтые похожи друг на друга»), мы постараемся различать среди обширных и знакомых окружающих нас объектов и вещей естественные субстанции (древесина, глина, кожа), изготовленные материалы (стекло, сталь, бетон), продукты ручного изготовления (обтесанный камень, тарелка или седло лошади), продукты фабричного изготовления (серийные), товары (серийно произведенные объекты на продажу).
Наконец, мы постараемся уделить внимание «штукам», которые считаются обычными или тривиальными (к объектам искусства или культа мы обращаемся на «вы», к объектам быта — на «ты»), отсылаются в низкий мир банальности под такими именами, как «штуковина», «игрушка», «цацка», «фитюлька», «халтура». Конечно, сегодня сюда не включаются объекты, наделенные интеллектом (электронный ярлык, электронный датчик давления и т. д.).
В этом смысле медиологическое наблюдение требует не только оптического переворачивания отношений «фон-форма» в восприятии окружающей среды, но и своего рода морального переворота для наблюдателя. Ему требуется покинуть благородные и облагораживающие, гладкие и значительные зоны «Бытия», чтобы войти (с аналитической мелочностью, если он сможет), во второстепенные и шероховатые, и даже в подозрительные и откровенно ничтожные зоны «существующего» во всех его состояниях.
Для тренировки здесь рекомендуется прочесть книгу поэта Франсиса Понжа «На стороне вещей». «К чему я стремлюсь, — пишет этот последний, — так это к тому, чтобы выйти из этого пошлого манежа, по которому крутится человек под предлогом того, чтобы оставаться верным человеку, человеческому, и где духу (по крайней мере, моему) скучно до смерти. И всякий предмет мне здесь помогает».
Приоритет — памятнику
В начале была кость [l’os], а не Логос.
Истина Евангелия? Нет. Историческая данность. Хронологическое предшествование, первенство теории.
Кость, этот первобытный архив... Первые погребальные обряды, как считается, появились за 100 000 лет до н. э. При нынешнем состоянии наших открытий наиболее древние останки костей, собранные и положенные рядом в охраняемой яме (а не разбросанные и брошенные на произвол судьбы на поверхности земли среди прочих отходов), датируются средним Палеолитом. Захоронения — наша первая мнемотехника. Она согласует настоящее с прошлым и с будущим (тела ингумируются при соблюдении погребальных обрядов). Это признак того, что человек больше не сводится к собственной физической длительности, что он помещается между временем, которое уже наступило (временем предков и мифов), и грядущим («О братья-люди, что после нас будете жить...»). Соотнести ощутимое присутствие с умопостигаемым отсутствием: вот минимальное определение символической операции. А каковы наши самые первые символы? Черепа с полированными краями, обработанные под мел, присыпанные золотом, с подведенными охрой глазницами. Двуногое, которое хоронит своих мертвецов, отмечая камнем место захоронения, свидетельствует о том, что животная жизнь больше не является его последним законом. Эти надгробия остаются гигантскими памятниками, иногда видимыми, иногда — нет: китайские ямы-казармы, египетские пирамиды, японские курганы, месопотамские мастабы, кирпичные некрополи на возвышенностях Перу.
Символическая операция, прежде всего, производится непосредственно над трупом предка, технически превращенного в мумию или в украшенный и погребенный скелет (впоследствии символом становится мраморная фигура, распростертая на надгробии). Мумификация — это искусство превращения непрерывного потока в некий склад, искусство извлечения жесткого тела из тела мягкого, крепкой и устойчивой формы из мешка с гниющими внутренностями. Тело восстановленное, очищенное, подвергнутое закалке, высушенное при помощи каустической соды, закутанное, обмазанное клеевой краской, выделанное — уже не останки, но произведение искусства. При отсутствии мумификации отделение костяка от внутренностей, твердых частей от подверженных гниению можно было доверить естественным процессам — превратностям погоды или хищникам. У зороастрийцев отделять вечное от эфемерного, остов от плоти полагалось грифам на вершинах башен безмолвия. Сохранялись и почитались лишь очищенные таким образом скелеты. Эти разнообразные практики свидетельствуют у плотоядного двуногого — задолго до золотых масок Тутанхамона и Агамемнона — о своеобразном и «неистребимом желании продлиться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: