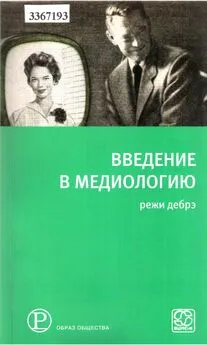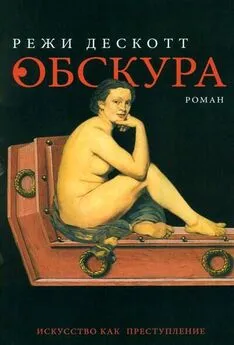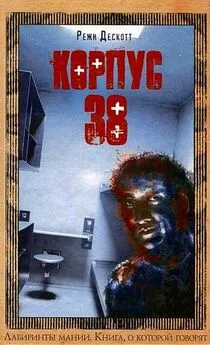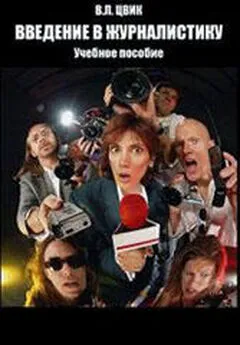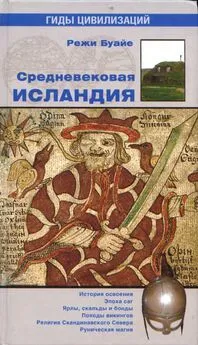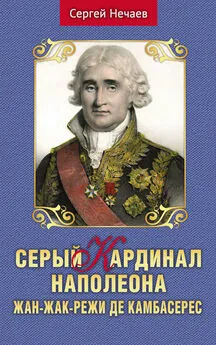Режи Дебре - Введение в медиологию
- Название:Введение в медиологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-901574-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Режи Дебре - Введение в медиологию краткое содержание
Целью медиологии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, как и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета.
Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни.
Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе.
В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может - то тут, то там - осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой, не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.
Введение в медиологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Извлечение запасов для хранения из некоего потока становится — благодаря их сбору — стандартным процессом полезной аккультурации, которая переводит незначащее в сферу смысла. Как мы видим в сегодняшнем расширении достояния памяти на аудиовизуальные потоки (создание Государственного хранилища образов и звуков во Французской Инатеке [10] INA — Institut National de Г Audio visuel, Национальный аудиовизуальный институт ( франц .). — Прим. пер.
превратило телевидение в объект рефлексии, подлежащий особому изучению, делающий возможными специализированную педагогику, историю и особые критические знания). Работа с наследием, отнюдь не будучи декоративным приложением к душевной жизни, знаменует собой возникновение новой цели для цивилизации (так, после того, как радио- и телепередачи собираются и индексируются, появляются радио- и телекультура). Складирование запасов может представлять собой неясный, чрезвычайно небрежный и внешне второстепенный момент мнемотехнического процесса, и все-таки это основополагающий и решающий момент, поскольку он обеспечивает прыжок из незапамятных времен в памятные. Условием является наличие резервуара. Передают лишь то, что смогли сохранить. Невозможно продлить срок жизни, не накопив. Нет сельского хозяйства без амбаров. Нет цивилизации без ангаров, резервуаров, хранилищ, магазинов, запруд, каретных сараев и т. д. Нет символического обращения без библио-, пинако- [11] Пинакотека: картинная галерея ( др.-греч .). — Прим. пер.
, глипто- [12] Глиптотека: хранилище печатей ( др.-греч .). — Прим. пер.
, кинема-, видео- и Ина -теки (от греч. thêkê — хранилище, вместилище, шкаф). Форма х -тека является канонической, сопутствующей всякому состоянию общества.
Умение изготовлять «протезы» [13] В данном случае имеются в виду инструменты, замещающие по своей функции части тела. — Прим. пер.
, которое превратило биологического человека в человека культурного (Бернар Стиглер: «С самого начала человек является человеком лишь потому, что он сочетает свою нервную и церебральную память с искусственными устройствами поддержки памяти»), дает неоспоримое объективное основание доктринальным тезисам о совершенствовании (XVIII в.) и о прогрессе (XIX в.). Речь идет о поистине родовом свойстве человека: self-made тап [14] Самоучка ( англ .). — Прим. пер.
никогда не существовал; мы возникли благодаря всем, кто нам предшествовал. В начале «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Жан-Жак Руссо с интуицией, предвосхищающей будущее, рассмотрел эту исключительную черту как способную положить конец спорам о соответствующих способностях человека и животного — силе, подвижности, чувствительности и т. д. «Но если бы трудности, — писал этот первый из антропологов эпохи модерна, — с которыми связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод для споров относительно этого различия между человеком и животным, то есть другое, весьма характерное и отличающее их одно от другого свойство, которое уже не может вызвать никаких споров: это — способность к самосовершенствованию, которое с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, способность, присущая как всему роду нашему, так и каждому индивидууму, в то время, как животное, по истечении нескольких месяцев после рождения на свет, становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, — тем же, чем был он в первый год этого тысячелетия» [15] Цит. по: Руссо Ж.-Ж., «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», в: Руссо Ж.-Ж., Об общественном договоре. Трактаты, М.: КАНОН-Пресс, Кучково поле, 1998, с. 82-83.
. Это «весьма характерное свойство» внушало грандиозную картину творения уже Паскалю: «Всю последовательность людей на протяжении стольких столетий необходимо рассматривать как одного и того же человека, который всегда остается жив и непрерывно учится». Проницательный Огюст Конт, в свою очередь, скажет, что «человечество состоит не столько из живых, сколько из мертвых», и определит культуру как «культ великих мертвых». Например, гименоптерам (перепончатокрылым) это «чудачество» неведомо, и никто не подумает о хищниках, как о тех млекопитающих, которые непрестанно растут и непрерывно учатся. Не будем же — вслед за великими моралистами — задаваться вопросом, соответствует ли это уникальное качество испытывать, архивировать и накапливать прежде не существовавшие вещи совершенствованию или деградации phylum’а ; необходимо ли — вслед за спиритуалистами — видеть здесь доказательство божественного принципа восхождения к «точке омега» или, наоборот, роковой отрыв от наших священных истоков; что лучше: вместе с Мальро превозносить культуру как «наследие благородства мира» или клеймить ее в ницшеанском русле как клеймо больного животного в нас («упадочничество безграмотности»). Описательные суждения медиолога располагаются за пределами этих спекулятивных телеологий. Кроме того, он не должен (в том, что касается качеств) вдаваться в морализаторские рассуждения о традиции как личной ответственности, например, задаваться вопросом о том, должно ли чувство долга побеждать отказ от уз верности; ресурс ли память или бремя. Вероятно, она и то и другое, но здесь это неважно. Единственная претензия медиолога — превратить передачу в объект позитивного, не пророческого и не полемического дискурса. Он довольствуется критическим вопрошанием: при каких материальных и социальных условиях возможно наследие? Это столь же тривиальная, сколь и необычная любознательность — подобная тем плодотворным вопрошаниям, что на каждой стадии мысли начинали с преобразования банальности в загадку.
«Кумулятивный» не означает «непрерывный». Получение наследия не отождествляется с механической «утряской» достояния. Конечно же, наследие состоит из разрывов и явного отбрасывания (языческой Античности — христианством, Средневековья — Ренессансом, Старого режима — Революцией и т. д.). Подобно тому как продвижение вперед представляет собой череду падений, которые приходится наверстывать in extremis [16] В чрезвычайных обстоятельствах ( лат .) . — Прим. пер.
, а реноме — совокупность абсурдов, так и всякая коллективная родословная представляет собой спираль изобретений, окольных путей, реинтерпретаций, новых аффектаций, иногда — насильственных разрушений; противоположность спокойной реке. Но если наследие является каждодневно возобновляемой конструкцией, то последняя предполагает, по меньшей мере, что предшествующее не отменяется, и что некое «так уже было» может сохраняться в некоем «так еще есть». И прежде всего , именно сохранение следов или древностей, которые время от времени можно активизировать, делает возможной революцию. «Раздумья без следов становятся исчезающими», — писал Малларме. Что такое геометрия? Начертание фигур Евклида. А христианство? Написание слов Евангелия. А живопись? Сохранение черт и пигментов. След — благодаря своему упорству — социализирует и трансиндивидуализирует индивидуальные воспоминания, объективируя их. Именно устойчивая память о нитях и чертах позволяет — на расстоянии или задним числом — передавать ускользающие испытания индивидов. То, что верно для памяти, верно и для всех остальных человеческих функций: нарушая простое биологическое повторение, человек последовательно экстериоризировал ударную силу своей руки в рубиле, движения своих ног — в колесе, свои подвижные мускулы — в водяной и ветряной мельнице, свои мечты — на экранах, кору головного мозга — в чипах. И заместитель естественного органа, технический объект, превзошел его изначальные способности. Так, в библиотеке хранится больше информации, чем в самом ученом черепе; способностей к расчетам в кремниевом чипе больше, чем в мозгу Эйнштейна; а у карбюратора скорость больше, чем у бегуна-олимпийца. Тело продлевается сначала в орудиях труда, которые становятся машинами (с встроенным двигателем), каковые образуют технические системы, которые сами перерастают в «техническую макросистему», как, например, сеть воздухоплавания, ядерно-энергетическая сеть и т. д. [17] К себе ( нем .). — Прим. пер.
Тем самым мы присутствуем при постепенном отделении функций от соответствующих им органов человека. Стагнации нашего органического «оборудования», начиная с первых homines sapientes — от которых мы унаследовали черепную коробку и костно-мускульный остов — соответствует взрывное распространение вспомогательных артефактов во внешнем мире; и если наши способности к интеллектуальной памяти уменьшились по мере развития графических средств помощи для памяти (что прекрасно предсказал Платон, описав в «Федре» благие и дурные последствия изобретения бога Тота [18] Alain Gras, Les macro-systèmes techniques, PUF, «Que saisje?», 1997.
), то эта локализованная потеря оказалась более чем компенсированной колоссальным накоплением «внемозговой памяти», которую образует коллективная оснащенность человечества. Тем самым техническая эволюция продолжает эволюцию живого после того, как последняя остановилась (для нас — по меньшей мере, сто тысяч лет назад). Это снятие замков открывает для обществ бесконечное будущее — (ибо «конец истории» в качестве условия собственной возможности предполагает невозможную остановку научного и технического развития).
Интервал:
Закладка: