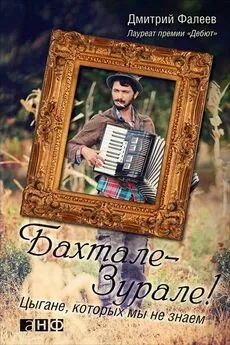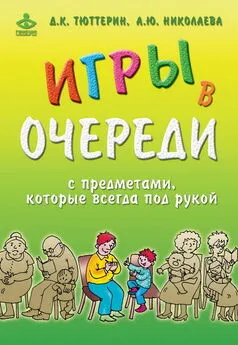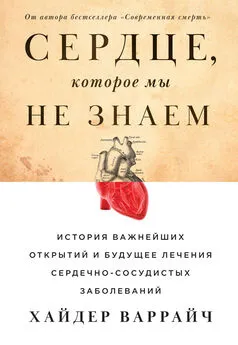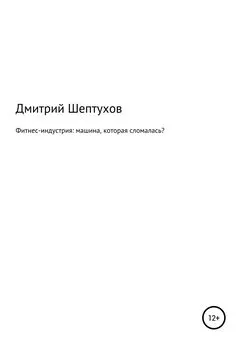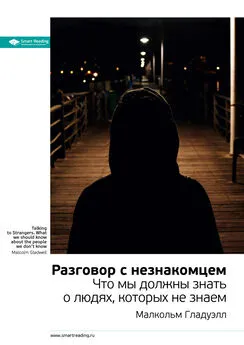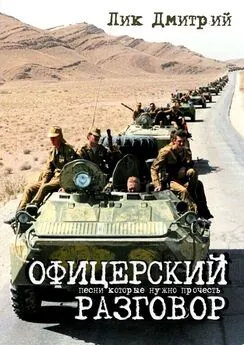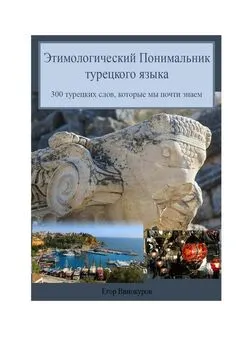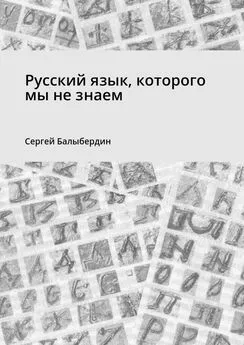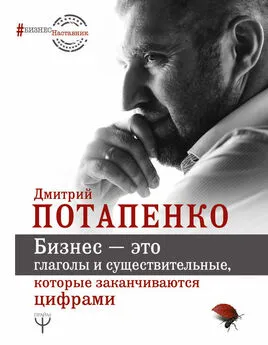Дмитрий Фалеев - Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем
- Название:Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-3297-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Фалеев - Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем краткое содержание
Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А новости… главная новость такая: на днях в таборе накрылось электричество. Это часто бывает, потому что цыгане как только не мухлюют — лишь бы не платить, и если ты в счетчик не вставил «жулик», ты не цыган! Вот и коротнуло. В половине домов сгорела техника — музыкальные центры, электрические чайники… Доэкономились, скупой платит дважды.
— Не продашь мне телевизор? — говорит Червонец. Его «самсунг» стал одной из жертв того замыкания. Без «самсунга» все скучают. Только Греко доволен:
— Без телевизора люди лучше общаются! Лучше домино! А по телевизору плохому научишься!
— Червонец, — говорю, — а почему у тебя такое имя?
— У мамы спроси.
Мама его, Лиза, — жена барона, ей семьдесят пять лет. Она отвечает:
— А помнишь, раньше были деньги красивые — красные червонцы, николашки их звали. Я их считала, и как раз он родился. А пусть, думаю, Червонец будет!
У этой Лизы двенадцать детей, а внуков сто! Она всех и не вспомнит!
Праздник происходит в доме Боши и Чераны. Гостей туда набилось, как в стручок горошин! Гутуйо (он же Коля), Пьяпино (Петрó), Пико (он же Миша), баба Лиза (Ляля)… У цыган, как у испанских грандов, несколько имен: одно — для табора, другое — для города, для документов. Раньше это была, судя по всему, своего рода конспирация, а сейчас остается как дань привычке, «такой у нас обычай».
Поросенок разделан. Каждая семья берет свою долю — массивные куски, которые сочатся кровавой росой; незначительную часть оставляют для тяфи. Готовят тут же — в большом казане, с луком, с приправами.
Мертвую голову поставили на стол у газовой плиты. Вместо украшения. Редиска рассматривает свиную морду во всех подробностях с осторожным интересом — а вдруг она сейчас очнется и хрюкнет?! Вот бы так было!
Редискина мама — по имени Черана — следит за казаном.
В зале собрались одни мужчины и говорят о своих делах с таким увлечением, как будто не виделись несколько лет, хотя они расстались лишь вчера вечером! Речь — энергичная, на русский слух резкая. Барон гладит бороду. Чобáно спорит с Тимой. Боша, хозяин, открыл бутылку водки и наливает поочередно собравшимся цыганам. Кто-то принес пиво. И мое вино для тяфи пригодилось!
Молодежь не пьет.
Через час все поспело. Мясо кладут на общие тарелки. Кто откуда хочет, оттуда и берет. Вилку и нож подали только мне, но я уж решил за компанию — руками! Оказалось, что руками намного вкуснее! Сок течет, облизываешь пальцы. Вокруг стола гуляет полотенце красного цвета — вытирать руки.
Я говорю:
— Бахтале-зурале! [4] Счастья-благополучия!
За вашу кумпанию! [5] У цыган-котляров слово «кумпания» идентично слову «табор».
— За дружбу народов! — добавляет Греко, Мустафа-барон.
Праздник продолжается. Цыгане увлеченно о чем-то бельмесят — ни слова непонятно, но мне почему-то ни капельки не скучно и совсем не страшно. А в первый раз, когда в табор собирался, мои родители не на шутку испугались — думали, меня там съедят живьем, словно я в стаю волков собрался! Слишком дурная у цыган репутация. Виной всему — их недоверчивость и скрытность. И особая гордость: «Мы, мол, цыгане! А вас не знаем! Чего вам тут надо?!» Цыганская правда — только для цыган.
Табор — коммуна практически изолированная, добровольное гетто. Чужаков здесь не любят и не пускают. Не столько сознательно, сколько по традиции, а традиция такова, что цыгане веками жили на особицу, но однако ж и не так, чтоб совсем уж отдельно — как тувинцы или чукчи. Те исконно находились на своей территории и могли позволить себе все что угодно, а цыгане, покинув родную Индию, везде попадали в чужую страну, с чужими порядками. Как удалось им за тысячу лет не раствориться в окружающих этносах — маленькое чудо. Видимо, тут и следует искать главную черту, от которой вышло и все остальное.
Монастырь был не их, но цыгане сумели устроиться в нем со своим уставом. Это требовало от них большой ловкости и хитрости. Вечные беженцы. Их домом был табор. Они возили Родину с собой. Дом на колесах. Их нигде не ждали, не приглашали. Других таких не было. А они своенравно продолжали повсюду оставаться не такими, как все! Расплатой за такую роскошь стало обособление — превращение в подобие закрытой касты. Их инакость многим не нравилась, особенно в странах Западной Европы, где бродячий народ долгое время подвергался гонениям — травили собаками, обвиняли в колдовстве, клеймили, вешали, отрезали уши, отдавали в рабство. Кому же охота любить своих обидчиков?
Как бы там ни было, а грань, отделяющая цыган от «гажей», то есть чужаков (при этом неважно, кем собственно являются эти чужаки — французами или финнами, армянами или чехами), в цыганском сознании с незапамятных времен существовала как стержневая. Им заветно, заповедно было важно не слиться. Почему? Так вышло, природа такая. Они бы и сами не смогли вам ответить, как получилось, что цыганский мир исконно делится на своих и чужих. У некоторых нэций [6] Те же самые нации, племена, этногруппы.
(под влиянием гонений, не из мизантропии — она им не присуща) слово «чужой» стало ассоциироваться со словом «враг». Сейчас страх прошел, но закрытая каста осталась закрытой. Был один цыганский артист, который мог достигнуть уровня Паваротти, но он даже пальцем не шевельнул, чтоб куда-то прорваться. «Цыгане меня знают, и этого мне достаточно», — объяснял он. Характерная логика.
С другой стороны, как ни относились цыгане к чужакам, они ясно понимали: без чужаков им не обойтись. Да и деться-то некуда! Всегда они с ними! Поэтому цыгане — и гордецы, и приспособленцы одновременно. Не против общества, но и не с ним. «В альтернативе», — сказал бы Кустурица.
Не с меня началось — творческие люди оттого и прославляют цыганскую жизнь (зачастую не зная ее изнанки), что она им сродни, и они точно так же ощущают себя в окружающем обществе как бы вне закона, на подпольном положении, потому что у искусства свои законы и они гораздо древнее любой из существующих ныне конституций, древнее России, древнее христианства, потому что сложились еще при Гомере, а это, согласитесь, адская древность. Диковатый сад искусства, на взгляд обывателя, — такой же неправильный и беспорядочный, как цыганский табор: ведь в нем распускаются любые цветы. Которые «можно» и которые «нельзя». Само слово «богема» (фр. boheme) в буквальном переводе означает «цыганщина», «цыганский дух». Однако задумаемся: если снаружи нам что-то и кажется откровенным хаосом, анархией или смутой, это вовсе не значит, что оно не имеет высокоразвитой структуры внутри. Если бы цыгане и впрямь оказались такими беспринципными раздолбаями и шантрапой, какими их обычно представляют, этот народ и его культура давно бы исчезли, потеряв свое лицо в превратностях кочевий. Но они не потеряли, а даже напротив — приобрели такую разноликость, которая на первых порах сшибает с толку любого этнографа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: