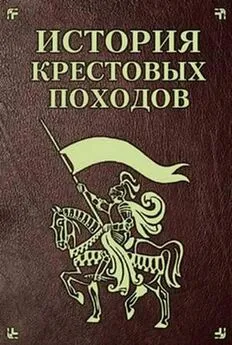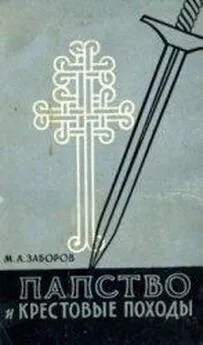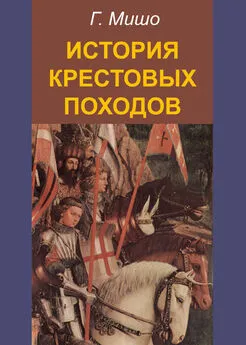Михаил Заборов - История крестовых походов в документах и материалах
- Название:История крестовых походов в документах и материалах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Высшая школа
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Заборов - История крестовых походов в документах и материалах краткое содержание
Книга содержит важнейшие материалы по истории крестовых походов — отрывки из хроник, мемуаров, различного рода записок, писем. Документальному материалу предпослан источниковедческий очерк со сравнительной характеристикой источников.
История крестовых походов в документах и материалах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следует упомянуть также «Всемирную хронику» яковитского патриарха Михаила Сирийца (1126—1199). Она состоит из двадцати одной книги, но события крестовых походов затрагиваются только в семи последних книгах (начиная с 7-й главы 15-й книги).
Особо важны по своему значению труды византийских историков XII—XIII вв. Греческая царевна Анна Комнина (1083 — ок. 1153/55) уделила довольно много места некоторым эпизодам иерусалимской экспедиции конца XI в. в «Алексиаде» — истории царствования Алексея I, написанной с целью прославить его деяния. Знаменитый византийский историк Никита Хониат (середина XII в. — 1213) в своем обширном труде по истории Византии посвятил немало страниц Четвертому крестовому походу.
Мы напрасно стали бы искать историю войн против франков у арабских авторов — таковой не содержат ни их труды, ни произведения армянских и византийских писателей. Естественно, что мы не вправе говорить об историографии собственно крестовых походов применительно к этим сочинениям. Однако, принимая во внимание специфику латинской хронографии, прежде всего ее предвзятую односторонность, необходимо учитывать и написанное восточными современниками: их материалы имеют большое значение для критики апологетических построений католических хронистов и мемуаристов, — ведь в латинских памятниках слово берут только завоеватели, а не те, кто явился жертвами завоевания.
При сопоставлении восточных и византийских памятников с латинскими хрониками нельзя не заметить определенные различия в изображении крестоносных войн теми и другими. Степень критического отношения к описываемым фактам, уровень глубины их осмысления и оценки довольно низки в апологетических хрониках западноевропейских церковников и рыцарей. Арабские, армянские, греческие писатели, политические и церковные деятели, путешественники и другие свидетели вторжения и утверждения европейских феодальных захватчиков в Малой Азии, Сирии и Палестине более критичны в выборе материала, в описаниях событий и в своих суждениях о них. Восточные и византийские наблюдатели нередко проявляли сравнительно большую объективность при характеристике захватнических предприятий крестоносного рыцарства; подчас они правдивее и точнее, нежели латинские хронисты, рисовали поведение западных грабителей и насильников в завоеванных землях, вернее судили о самом ходе военной и дипломатической борьбы крестоносцев с их противниками, о взаимоотношениях завоевателей с местным населением (во франкских государствах) и о многих других сторонах крестоносного движения.
Отчасти это объясняется, по-видимому, просто иным, зачастую прямо противоположным углом зрения восточных писателей: одни из них были настроены по отношению к крестоносцам в лучшем случае скептически, другие — враждебно. Конечно, сплошь да рядом они тоже, хотя и на свой лад, сгущали краски, поскольку воспринимали происходившее через призму интересов Востока или, точнее говоря, представляемых этими авторами общественно-политических групп арабского, армянского, византийского мира. Кроме того, сведения восточных историков даже об одних и тех же событиях неодинаковы по своей достоверности и характеру освещения. Наконец, подобно латинским хронистам, эти писатели были сынами своего времени: они были подвержены его политическим страстям, разделяли его религиозные воззрения и в своих повествованиях также следовали историко-богословским (мусульманским и православным) схемам.
Тем не менее арабские, армянские, греческие и другие восточные историки в целом, а иной раз и в деталях довольно точно рассказывали о крестоносцах, которые не без основания казались им грубыми варварами. Они подмечали немало такого, что ускользало от внимания или умышленно обходилось молчанием в произведениях западных летописцев, связанных обычно своим пиететом перед воинством христовым и его деяниями, ослепленных верой в боговдохновенность священной войны и блеском пышных титулов ее предводителей.
Так, представления восточных и византийских авторов о непосредственных причинах, целях и характере крестоносного движения на его начальной стадии нередко в гораздо большей мере соответствуют действительности, чем высокопарные рассуждения латинских хронистов о любви западных христиан к богу и пр. Расценивая ранние события войн франков по-своему и, главное, судя прежде всего по делам, а не по словам крестоносцев, греческие и арабские историки в отдельных случаях обнаруживают куда более основательное и глубокое понимание совершившегося, чем западные летописцы. Критическое отношение к франкам помогает им правильнее оценить скрытые пружины крестоносного энтузиазма рыцарства.
Тщетно мы стали бы искать у арабских историков объяснения крестовых походов религиозными факторами. Правда, аль-Азими (1090 — ок. 1161), школьный учитель и поэт из Халеба, автор «Краткой хроники» этого города (в ней излагаются события до 1143—1144 гг.), упоминает, подобно латинским хронистам, о препятствиях, чинившихся мусульманами паломникам в XI в. (По мнению латинских хронистов, именно гонения на паломников якобы вызвали «священный гнев» на Западе и явились одной из важных причин Первого крестового похода.) Однако это известие не принадлежит к числу достоверных, ибо аль-Азими, скорее всего, опирался в данном случае на информацию, полученную им у самих франков. Прочие же арабские историки усматривают причины выступления западного рыцарства на Восток в таких явлениях, которые весьма далеки от религиозной сферы и тем более от высоких моральных принципов.
Ни Ибн ал-Асир, этот единственный, как его называют, настоящий историк своего времени, ни вообще кто-либо из мусульманских авторов XII—XIII вв. не рассматривают крестовые походы в качестве предприятий, вызванных идеологическими мотивами. Даже в тех случаях, когда эти историки недостаточно точны в своих конкретных описаниях причин выступления первых крестоносцев, их общее представление о мотивах и характере деяний воинства божьего и его предводителей значительно выигрывает по сравнению с тем, как эти сюжеты преподносятся в произведениях католических хронистов.
Во многих случаях, далее, византийские и восточные историки были лучше, чем латинские хронисты, информированы и о самих событиях крестовых походов. Иногда восточные авторы вернее, чем западные, объясняют те или иные факты именно потому, что чужды католического фанатизма, подчас ослеплявшего латинских летописцев, и, более того, — враждебны стремлению превозносить мнимую боговдохновенность крестовых походов, которым проникнуты латинские хроники.
Открытие «святого копья» в Антиохийском храме выдается частью западных хронистов за божественное чудо. А между тем лживая подоплека истории находки этой реликвии совершенно очевидна арабскому историку Ибн ал-Асиру. Он рассказывает об этом эпизоде как о хитроумном обмане, подстроенном неким монахом. Прежде чем оповестить франков о явлении апостола, якобы открывшего ему местонахождение «святого копья», он «сам зарыл копье в углу храма и постарался тщательно замести следы своей проделки». Обеспечив таким образом эффект от своего будущего «открытия», монах предписал франкам, осажденным в Антиохии, трехдневный пост, а на четвертый день ввел вождей и воинов в церковь: они принялись рыть там «во всех углах» и, конечно, отыскали то, что требовалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: